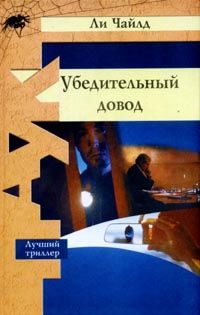Вениамин Колыхалов - Горислава
— Ты, Мотря, в политике не шарься, — подключается Крисанф Парфеныч. — Всегда были и будут мозгоправы. Распустил тебя шибко — словом, вольничать стала. Мне тятя по молодости правильно внушал: колоти изредка жену за непослушание. Пусть она, стерва, вспомнит, как раньше рожь на Руси молотили.
— Тронь — башку размозжу. Поленом такой горб набью — всю остатнюю жизнь будешь ходить беременным со спины. Тебе давно пора последнюю мебель заказывать — гробовину.
— Сама в нее ложись.
— Придет время — лягу. От беды можно уйти, от смерти не удерешь. Посмотрим, как ты улепетывать от нее будешь. Начнут черти на угольях жарить — наблажишься. Ты зачем порядочных людей закладывал, напраслину на них наводил?
— Они супротив партии и народа шли. Колхозы обхохатывали, вождя принижали. Кто им давал право такие частушки распевать: «Раньше ели мы котлеты, а теперь наоборот: на столе стоит картошка, мясо лает у ворот».
— Какое тут принижение? Тогда налоговщики лиходействовали. Не царское время на наш век выпало, а все пережили — барщину и оброк.
— Ста-ру-ха, доболтаешься:
— Сиди, пим дырявый. Знаю, кому говорю. Гость — мужик-нарымец. У него матерь в тылу надсадилась, рано умерла. Детдомыш он. Не прелой дратвой шит. Старик, наторбил брюхо, вылазь из-за стола. Эккая требушина ненасытная!
— За войну отъедаюсь. До сих пор голод сосет. Брюшко раздавайся, добрецо не оставайся.
— Не в клячу корм.
Смотрел на Матрену Олеговну, слушал обидную ворчбу на старика и прослеживал мысленно поворот за поворотом ее долгую безгрешную жизнь. Тяжкий крест взвалила она и пронесла сквозь долгие годы — крест верности нелюбимому человеку. Неужели так подействовала строгая бабушкина наука, было отдано предпочтение домострою и мужу-наушнику? Передо мной сидела праведница, ставшая жертвой, принесенной во имя крестьянской непорушной семьи.
Громко чавкая, хозяин аппетитно ужевывал кусок свинины. Было что-то звероватое в его буром, остроносом лице, в темных суетливых глазах. На сморщенной дряблой шее исчезал и выныривал тупой кадык. Еще крепкие зубы доблестно расправлялись с мясом. По мере уменьшения в бутылке самогонки щеки, уши приобретали кирпичный оттенок. Белки глаз мутнели, покрывались красными прожилками.
— Гостек, приложись к стакану. Или брезг берет?
— У меня от самогонки изжога.
— Нуу?! Со мной дак ничего не приключается.
Жена утвердительно покачала головой.
— В твою луженую глотку хоть уксус лей.
— Верно, Мотря, заметила: крепка пасть, как советска власть. Не всякий мои напиточки проглотит: глотка в терку превращается. Перегоночка что надо. Глотку, хошь знать, тренировать нужно. Лет восемь назад продавали у нас красное азиатское вино. Многие отравились, мне хоть бы хны. Сделал промывание желудка второй бутылкой, чуток пощипало под пупом — и шабаш. Закаляться надо.
В горнице на ножках стульев надеты винные пластмассовые пробки: крашеный пол меньше царапается. Из красных, белых, розоватых пробок старик делает аляповатые цветы — пластмассовые лепестки цветов смотрят мертво на палисадник, чуть покачиваются на медной гнутой проволоке. Не раз Матрена Олеговна расправлялась с букетами: швыряла в помойное ведро, в печку, но упрямый садовод брал ножницы, в зращивал на комоде, на окнах новые розарии. За время магазинного дежурства он набивал карманы плаща пробками, поэтому недостатка в материале не было.
— Гостек, давай все же выпьем… Здря отказываешься. Шарахнем по народной мерке — по стакану, жизнь слаще станет. После вина милее жена.
Матрена Олеговна пригвоздила старика взглядом.
— Балабол! Жена милее. Попыхтеть в постеле путем не можешь, человеку хвастаешься. И какая я тебе жена? Догробница я. Снесу муку до гроба, разочтет нас жизнь по заслугам и делу конец.
— Шибко не задирай нос, Мотря. Вспомни, какой ты мне бабой досталась.
— Че заткнулся? Говори — какой?
— По-ча-той.
Ждал от Матрены Олеговны гнева. Думал: запустит со зла в старика чашкой, пластмассовым цветком или уродливой глиняной собачкой с комода. Она чакнула зубами, словно произошла осечка приготовленного резкого слова. Заговорила внушительно и веско:
— Радуйся, дубина, что за тебя пошла. Метил в купцы, попал в скупцы. До сих пор над каждой копейкой трясешься. Эта малярия на деньги когда-нибудь тебя доканает.
— По завещанию все тебе оставлю.
— Без твоей завещательной бумажки проживу, с голоду не помру. Ох, и надоедный ты старик! Нудишь-нудишь век: початой ему досталась. Худой осудит, добрый рассудит. И не стыдно тебе перед человеком? — Глянула на меня. — Залил шары на свадьбе, пьяной-распьяной в постели был. Утром обвинение готово — до меня с кем-то сподолила.
— Молчи! Чернилами красными от греха откупилась. Думала — проведешь меня. А гостек что? Пусть слушает, всю скверну жизни впитывает, знает мое поучение: не верь бабьим сказкам… Бабье сдается на милость победителя, даже не поднимая кверху рук.
— Расскажи-ка лучше Вина-мину, поучитель ты этакий, кто в войну твой тылохранитель был. Почему от фронта отвертелся?
— Зубы, Мотря, не заговаривай — не ноют. Я тебе про Фому, ты про Ерему. Мы в колхозе победу делали, силами истекали.
— Кончай пить, у тебя уже морда брызнуть хочет. Силами он истекал! У весов да у магазина стоял. Кто-кто, а вот я всю войну до ниточки помню. Она недаром далась. С утра до ночи пот в очи. До сей поры тыл отрыгается — здоровьишко никудышное. Я, Крисанф, ловчить не умела, как ты. Век прожил по морской бухгалтерии: мне, тебе — и концы в воду.
— В землю все равно всех пустят. Грешников, праведников одни черви кушать станут.
— Тебе охота побыть волком, да мешает собачий хвост. Не весь язык износил на собраниях. Молол, молол беспрестанно. Такую идейщину наводил — артельцы головы в плечи прятали.
— К этой жизни, Мотря, надо примудриться. Где словом, где кулаком, где рублем путь себе прочищай. Не жди, когда за тебя столица заступится. Пока идет в верхах драчка за шапку Мономаха, что нам, рабам божьим, остается делать? Жить своим умом. У многих он давно не свой — купленный по дешевке. Верно: на сходках я речист был. Перед собранием меня проштурмует партейный секретарь: говори то-то и то-то, с колеи речи никуда не сворачивай. А я свернуть норовлю в кювет и крою всех без разбору… Толковый был у нас послевоенный председатель, да шибко раздумистый. Глядит, бывалочи, в одну точку, никого вокруг себя не видит. Какие-то тяжелые думы точили. Завел у себя дома патефон и под музыку бритвой зарезался. Хмельного почти совсем в рот не брал. На общих артельных гулянках поднесет стаканчик к усам — покоробится весь от отвращения.
— Ты бы хоть раз покоробился.
— Меня, Мотря, могила покоробит.
Задумался виношник, щелкнул на столешнице яичную скорлупу и затянул нудным, скрипучим голосом: «Понапрасну ломал я решеточку. Понапрасну бежал из тюрьмы. Моя милая родная женушка у другого лежит на груди…». На последней строчке певец так захайлал, словно с другого берега реки перевоз просил.
— Заглохни, леший! Перепонки не чугунные.
— Не ты одна в артисты вышла. И я на спевках отличался. Бывалочи, с Гришухой кузнецом затянем «Дубинушку» — зал «эй, ухнем» подвывает. Мы с Гришухой одногодцы. Его господь раненько в царство небесное взял. Жил, что не жил.
Шкодливым, хитромудрым парнем рос Крисанфушка. Выслеживал, на каких лавочках-беседочках рассаживались влюбленные парочки, заранее потемну мазал их коровьим пометом. Вляпаются ухажеры и молодушки, чертыхаются. Бегут к речке отмываться. Шкодливец спрячется за кусты и хохочет по-лешачьи, фубукает, волком воет. Сыпал увалень серу на учительский стул. Мазал дегтем ворота. Бил по стеклам из рогатки. Матерился всегда крутой матерью. В года вошел, не бросил богохульствовать. Матрене Олеговне иногда хочется сматюгнуться на старика — смолчит. Подумает: дай пропущу гадкое слово, все богом зачтется. Крисанф никогда не пропускал случая облаять порядки, пустые магазинные прилавки, людей, мешающих жить, приворовывать и ловчить. Даже поминая кого-то, вставлял язвительно: «Ох и сволочь была… царство ему небесное».
В Дектяревке слыл дельцом и скупердяем. Про него говорили открыто: этот оправится, посмотрит под себя и подумает — не сгодится ли на квас. В сенокосную страду на луговом стане привязанная к кусту кобыла припятилась к берестяному кузову, где хранились съестные припасы, набурлила туда. Заглянул косарь в кузов — плавают шаньги поплавками. Крисанф даже не стал обламывать хворостину о кобыльи бока. Спокойно вылил из кузова мочу, прополоскал в протоке шаньги, огурцы, картошку, луковые перья. Подсушив на солнце, не морщась, ужевывал подмоченный обед.
Почти до коренного снега выгонял пастись на отаву пестробокую корову. Ее давно мучили ревматические боли, похрустывали в суставах скрюченные ноги. Корова переживала на пастьбе тягостное предзимье, распахивала мордой рыхлый снег и щипала мерзлую, зуболомную траву.