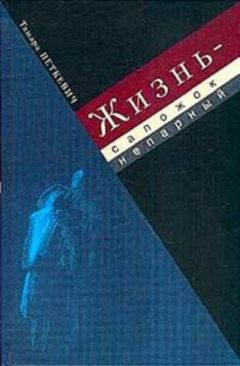Юрий Петкевич - С птицей на голове (сборник)
— Ты так думаешь? — ухмыляется дядя Эдик.
Прогулялись по пустому перрону, вошли в одну дверь вокзала, а в другую вышли, перебрались через рельсы и оказались на той самой дорожке, по которой шагали час назад. Теперь при ярких солнечных лучах все переменилось, и у людей, что встречались на пути, были не чайники на плечах, а лица: у каждого — свое, и с каждым я здоровался. Один из них, без глаза, остановился и протянул руку. Я тоже протянул свою. Потом одноглазый поздоровался с дядей Эдиком.
— Это твой сын? — показал глазом на меня.
Дядя Эдик нагнулся и обломал высохшую на корню стеблинку, засунул в рот и, откусывая от нее, по кусочку выплевывал.
— Да.
Одноглазый выпялился на меня, и я осторожно посмотрел ему в глаз, потом в сторону — на прохожего.
— Зачем это мы, — сказал одноглазый, — загородили дорогу, — и свернул прямо в бурьян, оглянулся: — Чего стоите, веселее, — и я вслед за ним шагнул, но тут загрохотал поезд, и дядя Эдик закричал:
— Дура! Ай-я-яй, что за дура!
Глядя, как мелькают вагоны, я вертел головой и думал, почему дядя кричит поезду: дура!
— Веселее! — звал из кустов одноглазый, но дядя Эдик орал всякие нехорошие слова, и когда поезд прогрохотал дальше, повернулся ко мне:
— Это наш поезд, — объяснил. — Кассирша — дура!
Поезд у вокзала остановился. И я смотрел на поезд, на котором должен был уехать, а я — тут, издали наблюдаю, недоумеваю, но не грущу, только не понимаю многих чувств, которые появились сейчас во мне.
— Можно я пройду к забору? — спросил у дяди, почувствовав, что хочу побыть наедине с собой.
— Иди, — разрешил он, глядя, как мой поезд тронулся с места и стал удаляться, и тогда сам шагнул к одноглазому.
Тот вопил:
— Веселее! — доставая из саквояжа бутылку.
Я начал подниматься по откосу, мимо куч с мусором, и — чем выше поднимался — становилось радостнее жить, и, когда я ухватился за забор и оглянулся с высоты, — подумал о маме — и чуть не заплакал, не знаю почему. Рядом, у забора, стояли старые липы и клены — они устремились в небо и шелестели над головой. За железной дорогой шумели другие деревья; дальше находилось озеро, на нем поднялись волны такого яркого цвета, что я навсегда запомнил это утро — синее не бывает. Еще подумал, что мог уехать на поезде, который недавно ушел, — а я околачиваюсь на горе под старыми липами и кленами у забора, внизу дядя с одноглазым пьют вино; и — подумал еще, что, если бы уехал, — этого всего не было; и я подумал: хорошо, что так получилось — получилась непонятно почему радость, почувствовал себя так, будто умер — и ожил. Я осознал: когда люди умирают — они вовсе не умирают, просто уезжают опять к бабушке, а я по какому-то недоразумению, может, действительно, кассирша — дура, как кричал дядя вслед поезду, и только по этой причине, я живу там, где должен был умереть. Я обрадовался и тихонько засмеялся. Испугался, что засмеялся, и уже сожалел об этом, не хотел смеяться, но дядя Эдик услышал внизу и позвал меня. Я не хотел откликаться; он еще раз крикнул мне, потом я увидел, как дядя Эдик ударил одноглазого и тот схватился рукой за лицо. Дядя стал подниматься к забору. Издали я услышал тяжелое его дыхание, он еще что-то бормотал, и, когда поднялся по откосу, я разобрал:
— Ай-я-яй! Какая дура!..
Вдруг дядя почувствовал мое присутствие и поднял голову. Я не знал, что сказать ему, и тогда улыбнулся, когда на лице его одно было выражено отчаяние. И я сказал ему:
— Ты забыл чемодан.
— Ах да, — опомнился дядя Эдик и с прежним выражением на лице начал спускаться вниз — и никак не мог отдышаться.
А я ждал, пока он спустится к железной дороге и поднимется обратно с чемоданом. Дядя наконец поднялся и сумел улыбнуться:
— Дай, пожалуйста, еще пятьдесят рублей.
Несмотря на жалкую ухмылку, в нем проскользнуло то, что увидел я в самом чистом виде, без улыбочки, когда он поднимался после того, как ударил одноглазого и кричал самому себе: дура! Я достал из кармана деньги, но мелочью пятьдесят рублей не набралось, протянул ему сто рублей.
Мы прошли вдоль забора, через дырку оказались в саду, и я набил карманы яблоками, а за яблонями стоял ржавый комбайн. Дядя Эдик зашел за него, расстегивая ширинку. Пока он писал, я съел несколько яблок. Потом он первый, а я за ним направились по стежке к железным воротам, которые никогда не закрывались.
Сразу за воротами — шоссе; напротив — магазин. На ступеньках — ведро с черной водой и тряпкой; рядом уборщица разговаривала с мужчиной в рваной телогрейке. Мы поднялись на крыльцо. Дядя Эдик пропустил меня вперед — в магазине пахло только что вымытым цементным полом; мне расхотелось идти по нему, и я повернул обратно.
На крыльце ни ведра, ни уборщицы уже не оказалось, и я один ел яблоки. Потом заметил мужчину в рваной телогрейке. Околачивается у железных ворот напротив и смотрит на меня. А когда я посмотрел на него — отвернулся. Едва дядя Эдик вышел из магазина, этот мужчина подскочил к нему. Дядя Эдик поставил чемодан и вынул из кармана сдачу… Когда мы немного отошли от магазина подальше, дядя, оправдываясь, признался:
— Я ему должен…
— У нас еще много денег, — говорю. — Ты не беспокойся.
— Я не беспокоюсь, — пробормотал он.
— Что это за круги? — спрашиваю.
Он посмотрел на чемодан.
— Эти? — показал. — На него ставили бутылку. — Рукой — по кругам, но они засохли, плюнул на них, еще потер, только размазал. — Ладно, потом вытру, — руку — о штаны. — Так ты говоришь: мама не встретила.
— Да, — говорю, — то есть не совсем так.
— Понятно, — говорит. — Но ты хоть знаешь адрес дяди Жоры?
— Нет, — отвечаю. — Бабушка посылала маме телеграмму до востребования.
— Да-а-а-а, — протянул.
— А чего ты берешь в голову? — интересуюсь.
— Я как раз не беру, — отвечает. — Я просто хочу разобраться.
— Так чего лезешь ко мне в душу, — говорю. — Разве ты не знаешь, что я опять еду к бабушке?
— Ах, какое прекрасное место! — воскликнул дядя Эдик. — Разве можно пройти мимо? — свернул к реке, и я за ним. На другой стороне — многоэтажные дома, трубы и набережная. — С этой стороны нас не видно за кустами, — объясняет. — А с той — если милиция и заметит — только через мост, а это слишком большой крюк, — и дядя достал бутылку из чемодана и помахал ею другой стороне, засмеялся — иногда и я так смеюсь, потом спохватился: — Я тебе конфету купил, — протягивает.
Разворачиваю ее, но после кислых яблок от конфеты заныли зубы. Правда, быстро перестали, потому что здорово находиться рядом с дядей, когда он в таких прекрасных местах пьет водку.
Я говорю ему:
— Закусывай.
Он машет:
— Ладно, — но все же открывает чемодан и отламывает хлеба.
— Не ладно, — говорю, — после водки надо хорошо закусить.
Дядя Эдик еще выпил из горла, а я не смотрю, чтобы он не поперхнулся, смотрю на реку — и ничего лучшего нет, чем наблюдать, как течет вода в погожий день; когда оглянулся — жует.
— Вот так, — говорю, — а то попробуй потащи тебя.
Он усмехается и с набитым ртом спрашивает:
— А ты?
— Не хочу.
— Это же твоя курица.
— Она такая же моя, как и твоя, — говорю.
— Нет, — кусает. — Ее купили для тебя, а я съем.
— Пока не хочу есть, — говорю, — а захочу — купим. Деньги есть, — проверил в кармане, — ешь. — А я после конфеты мясо не хочу, — повторяю.
Дядя Эдик спустился к воде, моет жирные руки, еще жует:
— Когда я не хочу думать, что будет потом, я пью водку.
— Это твое дело, — говорю. — Я же тебе не запрещаю!
— Да ты и не можешь мне запретить, — возвращается; остатки еды положил в чемодан и закрыл его.
— Никто не может никому запретить, — объявляю. — И мне — ехать туда и обратно!
— Да, — говорит. — Ты это понимаешь, а они этого никак не могут понять.
— Они просто думают о себе, — говорю. — Они слишком много думают о себе, даже когда думают обо мне, и ты — тоже; все вы — все равно думаете о себе. Куда ты? — удивляюсь.
Дядя Эдик с чемоданом спускается к воде, плещет ею на засохшие круги от бутылки, трет пальцами, и вода скатывается с кожи крупными каплями на камни у берега. Потом поднимается и смотрит на часы, а вымытый бок чемодана блестит на солнце, как стеклянный.
Переходим по мосту через реку. У перил нагнулся рыбак с удочкой. Дядя Эдик останавливается.
— Дай мне половить, — попросил.
— Пошли. — Я тяну его.
— Нет, Павлик, я хочу угостить тебя рыбой, — говорит заплетающимся языком. — Дай удочку, — продолжает.
— Пошли, — я говорю и сам иду — надеюсь, что дядя Эдик пойдет за мной, — иду по мосту один, но шагов сзади не слышу и, когда перешел на другую сторону речки, оглянулся: дядя все еще разговаривает с рыбаком — о чем, конечно, не разобрать; тогда я заорал: — Скорее! — и себе: — Как ты мне такой надоел!