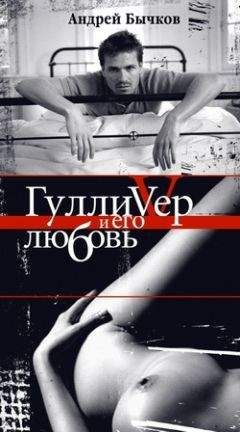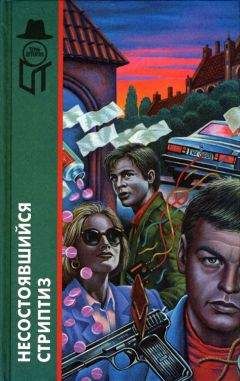Виктория Платова - Анук, mon amour...
– Он умер из-за книг, – Линн понижает голос. – Книги погубили его.
– Вот как?
– Объяснять это в полиции было бесполезно, никто не стал бы меня слушать. Нужно знать Эрве… И его одержимость писательством. И его ревность к тем счастливцам, кто был в состоянии сочинить несколько запоминающихся фраз.
Линн пристально смотрит на меня, и зачем только я сказал, что я – начинающий писатель? Впрочем, не стоит волноваться: я ведь не начинающий писатель, и никакого отношения к мукам со строптивыми причастными оборотами я не имею, мне никогда не сочинить фразу «Линн, русалка и немножко бонна». Начинающий писатель – Кристобаль, такой же ревнивый неумеха, как и покойный Эрве, я лишь плаваю в соляном растворе по имени «Кристобаль», в дешевом испанском вине по имени «Кристобаль» – изредка выныривая и отфыркиваясь.
Линн явно хочет о чем-то предупредить Кристобаля, жаль, что он никогда ее не услышит.
– Эрве появился здесь, когда ночь закончилась,
Сказанное Линн обнадеживает: ночи заканчиваются, и здесь нужно просто набраться терпения.
– Точной даты я не помню, кажется, это был конец марта. Мокасины на босу ногу, куртка из болоньи и матерчатая сумка, вот и все, с чем Эрве пришел сюда. Он был похож на бродягу, он так бился в двери, что чуть их не высадил. Я подумала – за ним гонится полиция.
– За ним гналась полиция?
– Хуже. За ним гнался день. Говорю вам, дневной свет был ему противопоказан. Так он мне и объяснил.
– И вы ему поверили?
– А почему я должна была не верить ему? Эрве сказал, что неподалеку, в двух кварталах, живет его старинный друг и что он просто не успел добраться до него. Эрве приехал из Лиона, автостопом, на грузовике…
Не на том ли грузовике с лионскими номерами, который стал причиной гибели вонючки-Бадди? Смерть настигла Бадди позавчера, день настиг Эрве Нанту лет тридцать назад, ничего общего между Бадди и Эрве Нанту нет, кроме грузовика из Лиона.
И меня.
Мысль вовсе не кажется мне такой уж невозможной, в этом странном букинистическом время существует по одному ему понятным законам. Оно искривляет пространство, удлиняет лестничные пролеты и бесконечно множит их; оно поддерживает жизнь в бог весть когда срезанных розах, заставляет меня и Линн выплевывать насекомых изо рта…
– Он не врал, Кристобаль. Я познакомилась сего другом на следующий день. С тем, до кого он так и не успел добраться. Это он назвал Эрве Кротом. Друг работал в страховой компании и ко всем писательским потугам Эрве относился скептически…
– Он так и остался здесь? Не друг Эрве – сам Эрве…
– Да. Вы проницательны, мой милый испанец. Гораздо более проницательны, чем был когда-то он. Он остался. Здесь было столько книг – и он остался. Он был забавный, хотя мне и приходилось постоянно держать жалюзи закрытыми. Пришлось даже заказывать для них таблички – «Ouvert»47. Правда, на них мало кто обращал внимание…
– Ваши доходы резко сократились?
Линн улыбается. Линн снова улыбается. Не только слова существуют отдельно от нее – улыбка тоже. Она висит в воздухе, подобно дирижаблю Нобиле, такая же нелепая, такая же бесформенная, такая же обреченная на скорую гибель.
– Ну кто же извлекает доход из продажи книг? Книгами торгуют из любопытства, из удовольствия, из страсти к флирту, из желания запихнуть свои комплексы в чужую жизнь или найти им подтверждение в чужой жизни…
– Это ваш Эрве так говорил?
– Эрве говорил мне лишь: «Задерни плотнее шторы, дорогая»… Он все здесь переставил по-своему. Переставил все книги – по одной ему понятной системе. И, знаете, это прибавило нам посетителей. Не сразу, но прибавило…
– И что это была за система?..
Система Эрве не очень-то волнует меня, разбираться в ней – занятие едва ли более благодарное, чем на ощупь ползти в тесных подземных коридорах, вырытых кротом. Без бечевки в кармане, с отсыревшими спичками, но с чем-нибудь жизнеутверждающим в CD-плейере, группой «Coldplay», к примеру: дневного света ей не нужно, она сама себе – дневной свет. Все самое интересное всегда случается на песне «Yellow», так что у меня еще есть шанс наткнуться на «Искусство умирания» в кротовьих тоннелях, важно не спутать его с чем-нибудь другим.
– …И что это была за система, Линн?
– Не знаю. Чтобы понять ее, нужно было самой на время стать Эрве. У меня не получилось. Я никогда не была одержима книгами. Я никогда не считала, что книги могут заменить весь мир.
– А он считал?
– Он – да. У него не оставалось другого выбора. Путешествия были для Эрве недоступны, путешествие требует поступательной смены дня и ночи, его невозможно прервать только потому, что наступил день. Нельзя бросить недопитой чашку кофе на заправке, нельзя бросить недопитой женщину, даже проститутку… Для Эрве существовала только ночь…
– Бедный Эрве…
– Он оскорбился бы, если бы услышал это, Кристобаль. Он был по-своему счастлив. Может быть, более счастлив, чем мы с вами. У его ног лежал не просто мир, у его ног лежали комментарии к миру. Подстрочники, придуманные людьми гораздо более талантливыми, чем он сам.
– Эрве не был талантлив?
– Я не прочла ни одной строки из того, что он писал.
– Вы не интересовались тем, что он делал, Линн?
– Не думаю, что хоть одна строка существовала. Но он был очень умный, очень. Он изучил Индию по Киплингу, корриду по Бласко Ибаньесу, джаз по Трумэну Капоте, приготовление коктейлей по Хемингуэю, баллистику по Ремарку, устройство авиационных двигателей по Экзюпери, устройство гарпуна по Генри Мелвиллу, черную магию по Лавкрафту, сезонную миграцию гепардов по Джой Адамсон48… О, он был очень умный, Кристобаль…
Дураком он точно не был, Эрве Нанту, я бы и сам доверил приготовление коктейлей Хемингуэю. Но так ли безупречны неизвестные мне Лавкрафт и Джой Адамсон?..
– Как можно судить о корриде, ни разу ее не увидев, Линн?
Линн как будто ждет этого вопроса. Кристобаль – испанец, он просто не может не ухватиться за бой быков.
– Любое событие очень быстро становится воспоминанием, милый мой. Воспоминанием, тенью на стене, тенью тени. А у тени нет ни запаха, ни вкуса, лишь силуэт. Правильность силуэта – вот что главное. Правильность силуэта может убедить тебя в чем угодно. Даже в том, что ты своими глазами видел то, чего не видел никогда.
– Это ваш Эрве так говорил?
– Эрве говорил мне лишь: «Я отправляюсь в Латинскую Америку. Закажи мне «Комедиантов»49, дорогая».
– И вы заказывали?
– Да.
– А он потом рассказывал вам о Латинской Америке?
– Да. С такими подробностями, которые ни в одной книге не сыщешь.
В голосе Линн звучит неподдельное восхищение. Внезапно нахлынувшие воспоминания о чудаковатом Эрве разом стирают с ее лица никому не нужные десятилетия, прожитые без набранных мелким петитом рассказов о Латинской Америке и ловле касаток. Скорее всего, сейчас я вижу Линн такой, какой видел ее сам Эрве: маленькой девочкой, дочерью молочника из Нанси – ноги в цыпках, руки в царапинах; маленькой девочкой, которой можно легко втюхать любую небылицу.
Зрелище незабываемое. Девочка Линн чудо как хороша.
– Что же произошло с Эрве, Линн?
Почти старуха Линн мрачнеет. Это воспоминание не приносит ей никакой радости; ясно, что тень на стене выглядит безобразной и до сих пор пугает ее.
– Наверное, я сама во многом виновата, Кристобаль… Мне не нравилось вечно сидеть в потемках, разве можно винить меня за это? Мне было всего лишь двадцать три…
– Вам было всего лишь двадцать три, и вы уже владели магазинчиком?
– Магазин достался мне от крестного. Он отдал богу душу за три месяца до появления Эрве и вовсе не так трагично. Свалился в пропасть на своем автомобиле в Швейцарских Альпах.
– Значит, с Эрве дела обстояли еще хуже?
– Намного.
«Он умер из-за книг. Книги погубили его» – вот что сказала мне Линн.
– Его разорвали бумажные гепарды Джой Адамсон? – не слишком удачно шучу я. Линн вздрагивает.
– Может быть, – шепчет она, и дрожь пробегает по моему телу. – Может быть… Когда мы вернулись, магазин был заперт изнутри, но жалюзи подняты. Эрве лежал ничком у двери, в круге света, день все-таки настиг его. На пыльном полу, в пыльном Париже. Он мечтал умереть, но вовсе не так. Вовсе не здесь.
– В Латинской Америке?
– В Латинской Америке, да… Где-нибудь у подножия ацтекской пирамиды, под лучами восходящего солнца… Я не должна была оставлять его. Но его друг…
– Страховой агент?
– Да. Мне было двадцать три, мне так хотелось разглядеть лицо того, кто может полюбить меня. Разглядеть при дневном свете. Разве можно винить меня в этом?
Вот оно что. Девочка Линн выросла, но от этого не перестала быть дочерью молочника из Нанси, цыпок на ногах больше нет, но царапины остались, привычка к царапинам – стойкая вещь, любой страховой агент слегка за двадцать пять может оцарапать ей сердце. Обычный страховой агент, каких тысячи, в приличном галстуке, в ботинках на пробке, с крепкими зубами, крепкой шеей и крепким кадыком, с немнущимися даже после незапланированного минета брюками. Вместо наспех сочиненной Латинской Америки – добротная и совершенно реальная поездка на поезде в Монпелье, девушка отвечает за бутерброды, мужчина – за выпивку. Девушка отвечает за романтику, мужчина – за презервативы.