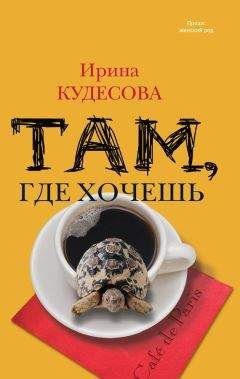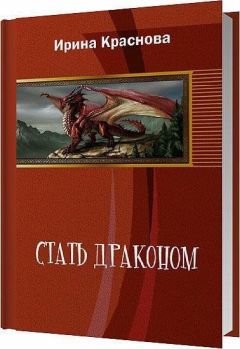Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
Алена слушала такие знакомые интонации в потихоньку набиравшем краски голосе — будто никуда и не уходил, будто не было фанерной стенки и диалогов, схожих со стрельбой из лука. Внезапно вернувшаяся близость: как давно потерянное дивное кольцо, выкатившееся из-под дивана.
18
Если бы Иосиф не сказал про дочь — про свою третью дочь; плодит одних девиц, — и речи быть не могло, что Завадская ступит на этот порог. Пусть хоть десять раз у нее уже другой мужчина. Пусть хоть сто раз Ося говорит, что — как ее? — Алена гнала его, и вначале, и под конец. И пускай тысячу раз талдычит свое «Вы с ней похожи». Никто ни с кем не похож, она, Эгле, ни у кого мужиков не уводила.
Но ведь ребенок не виноват… Да нет, не то. Просто отказать сейчас Иосифу — значит оттолкнуть окончательно: и так зиму-весну как неродные прожили, с Гинтарасом больше бесед велось, чем с Осей. И ведь даже на шантаж пошел: «Не примешь Алену — уеду». Тоже, облагодетельствовал своим присутствием…
Этот Аленин приезд надо было пережить. И пережить с достоинством, если не сказать — с любовью. Лишь так, принимая тех двоих, что оставались дороги мужу, получилось бы снова оказаться рядом с ним, опять сродниться, может, еще крепче, чем раньше; обойти в благородстве ту, что когда-то обокрала тебя: только слепой этого не оценит.
Лишь одно условие Эгле выставила — чтобы Алена приехала в июне. В начале июля старшая дочь привезет обеих внучек, и не хотелось бы…
Когда Ося отправился за Аленой в аэропорт, Эгле принялась бесцельно бродить по дому, к которому до сих пор не привыкла, хотя был он ей мил. Заглянула в комнату, выделенную для той: у окна — детская кроватка, которую отдали новые хозяева ее старого дома. Иногда они с Осей заходили к ним перекинуться словом, и Эгле скользила рассеянным взглядом по комнате, ища примет прошлого, которых и не было уже.
Эгле взяла Гинтараса, спустилась на первый этаж. Жильцы — их набралось пока немного: семейная пара; парнишка, искавший приключений и являвшийся всякий раз под утро; две девчонки, ходившие подозрительно обнявшись, — разбрелись. Эгле выпустила зверька на траву. Он осторожно потопал вперед, вытягивая мордочку: мохнатая рыжая сарделька на ножках, сладкий Хрюнтарас. Если у них хватит наглости привезти того далматина, что Ося заказывал «для работницы», то этого Эгле уже не вынесет.
Потом к дому подъехало такси, Эгле вышла из оцепенения, заметалась. Подхватила Гинтараса, рванулась к дому. Но они уже заходили: впереди Ося, а следом — худенькая девочка с малышкой в панамке. Девочка, Алена Завадская, — вспомнилась сразу вся: с этим своим дикарством; прямым взглядом; с руками, которые она, сидя в легендарном кресле красного дерева, держала перед собой, поставив локти на колени: загораживалась. «Действительно похожи», — подумала Эгле.
И не осталось злости. Или нет, может, все-таки осталась — так, на донышке. Эгле присела перед девчоночкой в панамке:
— Как тебя зовут?
Но девчоночка зачарованно смотрела на Гинтараса. Потом отвела глаза — только на секунду, оглянуться:
— Ма, Свиньтусь жёльтий! — и потянулась к зверьку.
Но Эгле Гинтараса не отдала. Она подняла голову — Алена серьезно смотрела на нее, прихватив зубами нижнюю губу. От этой дурацкой привычки Эгле годами не могла избавиться — кусала губы, когда нервничала, а эта идиотка из Саратова-Саранска верещала на всю общагу: «Елка, с кем целовалась?!» — это ей-то, после истории с Йонасом шарахавшейся от парней.
Эгле встала. Перед ней кусала губы девчонка. Девчонке требовались поддержка, защита, внимание. Это было видно невооруженным глазом. У Оси всегда срабатывал мужской условный рефлекс — защищать слабого. Это нынешним мужчинкам подавай товарища, в ногу шагающего, а Ося, он… «всамделишный», как внучка Таня выражается. Все это не значит, что она, Эгле, готова подарить девочке близкого человека. Но стало ясно, почему сошлись эти двое. Их даже прощать и то было не за что.
19
Алена развернула листок с адресом Кэтрин: «Метро „Смоленская“ выход к Ст. Арбату…» — она там гуляла с Осей, всего один раз. Вот так живешь в городе и не видишь его.
Наверно, народ повсюду — в три-то часа дня; вагон метро — как банка со шпротами, хорошо, на конечной сесть удалось.
Выходила из дома — накрапывал дождик, но зонт — пошарила рукой в сумке — с собой. Пальцы нащупали что-то кругленькое, выпуклое. Достала. Так и есть — совсем о нем забыла: кольцо. Дурацкое массивное кольцо из янтаря, подарок Э.Э. Если два пальца втиснуть, будет впору. Литовцы выдумали, что янтарь — это то ли божьи слезки, то ли осколки подводного замка.
В первый же день в Паланге набрели с Юлькой на скульптуру: Он и Она, склонившиеся друг к другу. «Зацепила» Она: выгнувшаяся в какой-то неестественной позе, будто выкручивают из нее душу. Ося сказал, какая-то легенда. У Э.Э. выяснять не стала, надо думать, та и без докучных расспросов находилась на грани нервного срыва.
Володя, к которому Свинтус, на радость Степану, поступил на содержание, идею поездки не одобрил.
— А что говорит этот твой…
— Николай?
— Да…
— А что он должен говорить?
— Я бы на его месте…
Понятно, Николай устроил сцену.
Нина восприняла информацию спокойнее всех:
— Поезжай, Алена. Подумай о Юльке. А вобле так и надо.
— Вобле?
— Жене.
— А ты откуда знаешь, какая она? — фыркнула Алена.
Но про свой поход на кафедру Нина и под пытками не рассказала бы.
Бродила по ласковому пляжу, смотрела издалека на вооруженную красной лопаткой дочь: в этой огромной песочнице копай — не перекопаешь. Думала: одно — решиться приехать, другое — месяц здесь прожить. Нелепость: Ося хотел бы побыть с Юлькой, но выглядит любая его отлучка из дома как… случка. Хотя уж не идет об этом речь.
Сдружиться с Э.Э.? Ну, это из области фантастики. Как была в свое время пропасть «учитель» — «ученик», так и осталась, даже если историю с Осей в расчет не брать. Вобла, она и есть вобла.
Потихоньку начали возвращаться стихи, спугнутые новой обстановкой. Алена брала в руку горсть песка, смотрела, как медленно он высыпается из сжатой ладони, сочиняла. На пытавшихся познакомиться смотрела удивленно, отрешенно — отставали. Правда, у нее завязались приятельские отношения с парнишкой, снимавшим комнату в доме: он все тянул ее по вечерам на танцульки, и она даже поддалась как-то, пошла, но сбежала — слишком много народу, слишком громкая и пустая музыка.
Она обходила стороной эти людные лакомые местечки — пирс и пешеходную улицу, названную именем местного умницы, собирателя народных сказок. Оставляла на Осю дочь, бродила, кормила в парке лебедей; большие птицы, они иногда утопывали далеко от своих озерец, важно шлепали черными перепонками лап по плитам тротуара на пустынной улочке: белые, как непрокрашенные пятна в пейзаже.
Дни походили один на другой, в меру солнечные, в меру дождливые. Э.Э. то ли поняла — ничего не грозит ей, то ли подивилась на Аленино спокойное одиночество, но стала делать мелкие шажки к сближению. Как-то сидели после обеда в саду, рассматривали с Юлькой бледно-рыжие камушки, что Алена насобирала, бродя в прохладном прибое. Камушков было всего ничего, и тут появилась Э.Э., принесла целую горсть. Ося дремал у себя, но Э.Э. не ушла, осталась. Молчали. Что-то бубнившая Юлька тоже притихла — она побаивалась Э.Э., не позволявшую брать в руки «жёльтего Свиньтуся», злая тетя.
И вдруг Э.Э. заговорила.
— Моего брата зовут Каститис.
— У вас есть брат?
— Да… В Америку уехал… Мама назвала его в честь рыбака из легенды. Знаете легенду о Юрате?
Алена помотала головой. Э.Э. начала как бы нехотя:
— Была такая богиня Юрате, жила на дне Балтийского моря в янтарном замке. Ничто ее не тревожило, не знала она человеческих чувств, ни любви, ни ненависти. Но однажды послышалось ей красивое пение, потом снова и снова… Она стала слушать эти песни… А пел их молодой рыбак Каститис — он выходил в море ловить рыбу, кидал сети прямо над крышей янтарного замка. Может, ее пленил его голос, может, смелость — не уходил он, даже когда она заставляла плясать волны…