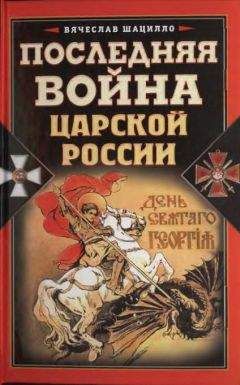Василий Белов - Год великого перелома
Не мог он никак забыть про тот глупый момент, когда потрошили поповский дом. Сопронов раскулачил сперва Жучка и поповских дочек. Наутро дошла очередь до Евграфа Миронова. Норовил обделать и Роговых, да не успел, приехала из Ольховицы милиция и увезли Игнаху в Залесную. Искали какого-то выселенца. И работки в Залесной было побольше… В тот вечер, когда Сопронов начал кулачить учительниц, Киндя сидел как раз у Евграфа. Одна поповна, вся в слезах, прибежала к Мироновым. Помогите, спасите, мол, а что можно было сделать? Евграф и сам с часу на час ждал незваных гостей, даже огня в лампе не зажигали. Киндя вышел тогда от Мироновых, а Селька-Шило тут и топчется. Увидел Селька Киндю и присел за колодец. «Что, Сильвестр, на посту нонче? — крикнул Судейкин. — Стой, батюшко, стой. Хорошее дело!»
Хорошее или худое, а деревня пережила-таки и ту долгую ночь! Обе поповны ночевали в чужих людях, утром протопили избу просвирни. Жучка и Евграфа отправили сперва в Ольховицу, потом в район, а старый Жук с корзиной пошел по миру. В доме Жучка учинили новую контору колхоза, а Зойка Сопронова на той же неделе перешла жить в поповы хоромы.
Что тут скажешь и станешь делать?
Акиндин видел, как из Поповки, еще до Зойкиного переселения, Митя Куземкин тащил в читальню часы с гирями. После такого дела осмелел и Кеша Фотиев: унес домой чуть не новое стеганое одеяло. Ну а потом и пошло! Многие в тот день приложились к поповскому дому, в том числе и он, Киндя Судейкин. Вертелся тогда в уме один вопрос: а кому-то достанется граммофон с трубой? Думал, думал Судейкин об этом граммофоне и — дернул его нечистый дух! — тоже подался в Поповку, следом за Мишей Лыткиным. Забрал Киндя граммофон и приволок домой. Прямо с пластинкой. И даже завел на радость девчонкам. Хорошо женщина пела, выводила от всего сердца. «Вы-я-ль-це-ва, — прочитал Судейкин фамилию. — Не чета моей балалайке». Он готов был слушать эту пластинку каждый день, но тут пробудилась и начала грызть совесть, а вслед за ней поднялась и жена: «Снеси обратно!»
Акиндин понес граммофон обратно в Поповку, но там уже командовала Зойка Сопронова, и Селька-Шило стукал топором на сарае.
Судейкин вспомнил, что учительницы поселились в пустой клетине бывшей просвирни. Больше негде им жить. В бывшей приходской школе, где обитал когда-то отец Николай с попадьей, давно развалены печи. В просвирниной избе было протоплено, но дымно и неуютно. На лавке в верхней одежде сидела младшая, Марья Александровна, сидела и плакала. Старшая ушла в Ольховицу искать справедливость. Ищи ее свищи, ту справедливость! Зря и ушла. Судейкина то и дело кидало в краску:
— Марья Олександровна, это… значит… — Он поставил граммофон на стол. — Принес. В полной сохранности.
Учительница даже не повернулась в сторону Кинди. Он потоптался немного у дверей и подался домой. И вот все последнее время Судейкина мучила совесть…
Сегодня, уже под утро, Киндю неожиданно осенило: «А снесу-ко я им зайца!» На сердце враз полегчало. Все бы ладно, но зайца-то надо было еще и поймать. Ружья у Кинди не было сроду, зато имелись клепцы, и по зимам он держал небольшой охотничий путик в болоте. Правда, путик Судейкина пересекался с нечаевским. Клепцы — штук шесть — были поставлены сразу после лесозаготовок. Зайца нынче развелось много, Киндя с помощью ржаного кислого теста начал выделывать шкурки. Пушистые, легкие и белоснежные заячьи хвостики рядами висели на ниточках под матицей для детской забавы.
Судейкин, еще до того как жена затопила печь, оделся и встал на лыжи, не спеша выехал на свой путик. За лесом в болоте он сразу увидел, что кто-то чернеет и молча шевелится в снегу. «Медвидь, что ли? — взволновался Судейкин. — Так ведь медвиди зимой спят в берлогах. Нет, не медвидь, а живой человек!»
Судейкин съехал с лыжни, приблизился и увидел уполномоченного, который года полтора тому назад запирал в ольховский амбар шибановских стариков, запирал за то, что они выстегали Сельку Сопронова. Он же самый чистил и местную партийную ячею, а больше Судейкин его не видывал.
— Та… та… таварищ! — заикаясь, пробормотал Меерсон и снова попытался выбраться из глубокой снежной воронки. — К-к-как ваша фамилия?
«Вишь, язык у него не ворочается, совсем замерз», — подумал Киндя и спросил:
— Ты тут кого ловишь?
— П-п-прашу, п-п-помогите!
— Эк тебя угораздило! — Судейкин подал Меерсону черень веселки, с помощью которой ставят и припорашивают снегом клепцы. — Держи, ежели дюж!
Уполномоченный ухватился, но Судейкин с одного раза не сумел вытащить его на поверхность наста. Только после многих попыток, по веселке, а потом боком, уполномоченный выкатился из снежного плена.
— Садовая голова! — ворчал Киндя. — По насту ходить надо до солнышка и тоже умеючи. Чево в низину-то сунулся?
— Х-х-хотел прямо! — выдохнул Меерсон.
— Прямо-то одне вороны летают. Ты бы шел, где бугор да голое место, выбирал бы, где крепко. Не вставай, опеть провалишься!
Уполномоченный покорно затих, лежа на левом боку.
— Что нонче мне с тобой делать? — вслух размышлял Судейкин. — За другими бы лыжами съездить?
Уполномоченный зашевелился, выражая тревогу, Киндя положил веселку на снег и ступил на нее, снял сперва одну лыжину, после другую.
— Ладно, коли! — решительно сказал Судейкин. — Вставай на мои. А я как-нибудь без лыж выберусь. Не встать? Ну так ложись на их! На обе!
Меерсон закатился на широкие самодельные лыжины. Судейкин, не сходя с веселки, распутал бечеву, на коей таскал свои лыжи, когда ходил по дороге. Продел в дырки веревку, а другой конец привязал к поясному ремню. И опустился руками на снег. Стоял Киндя на карачках, чтоб не провалиться в снегу, держал веселку поперек и опирался ею на слабеющий с каждой минутой наст. Дернул, сдвинул воз на поларшина, дернул еще. Бекеша и портфель тащились по снегу, тормозили движение…
Судейкин выволок воз на чистое, без кустиков место. Наст тут был прочнее, отсюда недалеко и до путика. Лыжня на путике еще крепче, она подымала человека без лыж. Киндя вытащил уполномоченного на путик, встал на ноги и шапкой обтер пот с лысого лба:
— Теперь правик! Выбрались.
— С-сп… Очень благодарю, — услышал спаситель.
С помощью Судейкина Меерсон попробовал встать и чуть не слетел с путика. Казалось, что уполномоченный совсем ослаб и замерз. Судейкин велел ему опять закатиться на лыжи и протащил его до самых гумен. Только на широкой, твердо укатанной дороге Меерсон наконец поднялся на четвереньки. Судейкин подсобил ему встать на обе ноги:
— Вот, брат, каково не умеючи-то!