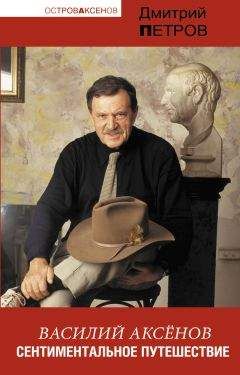Василий Аксенов - Московская сага. Война и тюрьма
С Ларисой явно все пошло иначе, все по-настоящему, подлинное рождение мужества. Никогда не подозревал за собой таких способностей. Дева пела, стонала, кусалась: «Митя, мой любимый, как же ты хорош! Давай! Давай! Еще! Еще!» И он вдруг совершенно ошеломляюще влюбился в изгибающееся под ним волнообразное тело, в обострившееся лицо, воплощение романтики.
Гошка сидел на крыльце со своим карабином, как бы охранял от партизан, однако дверь держал приоткрытой, наслаждался зрелищем. Выгоню его к чертовой матери, думал Митя, продолжая сладкую работу, не дам прикоснуться к этой девушке. Дверь закрою и буду с ней до утра, а потом, может, убежим вместе куда-нибудь навсегда. В Аргентину, «где небо южное так сине». Потом прибыли в Аргентину, а может, куда и получше. Все мысли пропали, началось полнейшее извержение взаимных восторгов, ошеломляющее танго. И только лишь когда восторги стали убывать, услышал Митя хохот, топтание сапог в девичьей комнате, голос харьковчанина Кравчука:
– Во дает Сапунов! В профсоюз не платил, а все дырки захватил!
Это была батальонная неразлучная шестерка, что всякий вечер шлялась по округам в поисках, кого бы пустить «под хор». Очумевшие парни, кажется, совсем уже забыли, что баб можно искать поодиночке, или, скажем, на пару, или, скажем, совсем не искать. Волоклись друг за другом, зырили вокруг шакальими глазами, вот такие «колхозники».
– Давай, Митяй, закругляйся! Погулял, передай товарищу!
В толкучке мелькало похабное лицо задушевного друга, предателя Гошки. Митя выскочил из аргентинских южных объятий. Последнее, что успел заметить, плавающий лунный блик на лице любимой.
– А ну, катитесь отсюда, шакалье! У меня в кармане лимонка!
Двое тут же насели на него, потащили в сторону, Кравчук же сразу бросился к раскинувшемуся на оттоманке телу. Митя рвался, как стреноженный конь. Швырнули с крыльца в грязюку, вдогонку сапоги полетели и штаны, взметнувшиеся в ночном небе, как тень человека. Из дома неслось скотское ржанье, топот, взвизги Ларисы «давай-давай, мой хороший!», квикстеп «Рио-Рита»: кто-то, дожидаясь очереди, прокручивал патефон.
Митя собрал имущество, долго сидел в тени, колотил зубами. Была бы на самом деле лимонка, непременно бросил бы в окно, чтобы у всей хевры хуи пооборвало. Старуха прошмякала по двору, глянула через заборчик: «То ж у новой библиотерки хлопцы гуляют». В конце концов Гошка появился с двумя карабинами на плечах, Митиным и своим собственным. Разоружить мерзавца было делом одной секунды. Долго метелил гада ногами, кулаками, локтями под подбородок, в брюхо, делал «шмазь», лапой хватил за морду, волочил. Ни малейшего в ответ сопротивления, даже странно. Бессильно откидывалась в стороны головенка с застывшей на губах мечтательной улыбкой.
– Ну, признавайся, гад, и ты там прогулялся?
– Ну, а как же, Митяй, конечно, прогулялся же ж! За Боровковым и перед Хряковым, по свойски же ж...
– А что с ней?
– А с кем?
– С Ларисой, с кем же еще, ублюдок!
– А чего с ней, порядок, нагулялась баба. Не бей меня больше, друг. Я же ж их не звал, сами приперлись.
Вот такое паршивое дело омрачило на энное количество времени отношения двух неразлучных москвичей. И долго потом еще Митя весь содрогался, вспоминая свое «аргентинское приключение», хотя и дошли до него некоторые подробности непростой Ларисиной биографии. Оказалось, например, что ту насилку и насилкой-то в принципе нелегко назвать, потому что девица вечно сама напрашивается. Так говорят, что ее еще в сорок первом пропустили через взвод доваторские казачки, а потом уж пошло: и немцы, и итальяшки, и своей предостаточно похабели из партизан, короче говоря, развилось у женщины не что иное, как бешенство матки. Так что выводы напрашиваются, милый Митя: в лучшем случае «трепачка» мы с тобой из «источника знаний» подцепили, в худшем – сифилягой нас наградила жертва войны. Тогда носы потеряем, Сапунок, будем ходить безносые с тобой. Два безносых друга. У-ха-ха, у-ха-ха! Получалось, в самом деле, довольно смешно – два безносых друга! Да, так нас с тобой и в Аргентину не пустят, Гошка Круткин. А хер с ней, с Аргентиной! Мы в Африку с тобой подадимся, там половина населения заживо разлагается. Ой, умру, половина, говоришь, населения без носов? Натюрлих!
Обошлось все же первым вариантом, простым «архиерейским насморком». Вместе ребята корчились, держались за концы, вместе им стрептоцидовую эмульсию в зады закатывали; боль такая, большевику не пожелаешь! Неплохо, однако, поломанные отношения скрепляет. Зуба больше на Гошку Митя не держал, а Лариску на фиг позабыл. Бабе этой, видно, недолго гулять осталось. Не позабыл он только одного – своего с ней восторга, какого-то вихревого воплощения мечты. Позор и тоска выжигали его в моменты этих воспоминаний. Значит, и любовь моя уже навеки испохаблена проклятой жизнью, пропущена через «хор» трипперных козлов, значит, и любви теперь уже у меня настоящей не будет, если я испытал это даже и не с женщиной, а с каким-то призраком войны? С солдатской лоханкой?
Ну, разумеется, такими мерлихлюндиями он даже с Гошкой не делился, корчился в одиночку, все больше свирепел. Все дальше от него, в нереальность, отходил очаг градовского дома, все серебряноборское. Агашины почти неслышные, в шерстяных носках пролетания, легкие ее бормотания, от которых уютно начинала журчать подростковая макушка; раскаты рояля Мэри все размывались, растрепывались, как пролетающие облака, голос ее еще держался, в одной ключевой, сильной, как Бетховен, фразе: «Дети, к столу!»; основательное похрустывание паркета под башмаками размышляющего вдоль и поперек кабинета деда Бо; маленький камень в углу участка под елками и папоротниками, а зимой под шапкой снега, как большущий гриб, – усыпальница любимого Пифагора. Все это, весь этот мир любви и твердых человеческих обычаев, куда судьба его вдруг поместила, вытащив наугад из пепелища, все это было, как теперь становилось ясно, лишь передышкой, а дальше опять русская доля.
– Куда едем, герр Линц? Вохин фарен унс? – спросил Гошка унтера, который в то утро раздавал боезапас, по подсумку с патронами. Четыре крытых брезентом грузовика уже поджидали их роту за воротами. Пожилой, похожий на сапожника унтер, от которого, несмотря на ранний час, уже пахло чем-то хорошим, что-то пробурчал, для Мити совершенно непонятное, а для Гошки все-таки замечательно понятное, ибо умел паренек из кучи непонятного выхватывать что-нибудь одно и сразу понимал, что к чему.
– Он нас всех в жопу посылает, в глубокую жопу, и говорит, что там она как раз и располагается, куда нас везут, а везут нас в какой-то Гарни Яр.
Митя еще зевал, тянулся, молодая радость жизни все время подавлялась общей хреновостью. В жопу так в жопу, куда ж нас еще пошлют, в Гарни Яр так в Гарни Яр. Небось опять партизан прочесывать или железную дорогу чинить...