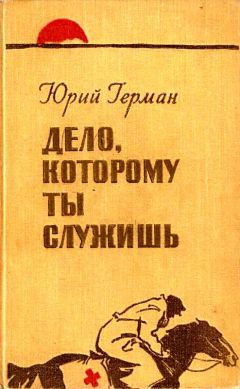Бен Элтон - Два брата
— Катарину не встречал?
Гельмут вдруг погрустнел.
— Ах да, ты же в нее втюрился, верно? — сказал он.
— Было так заметно?
— Кричаще, дорогуша. Кричаще. Но кто тебя обвинит? Красавица Катарина, она была такая изысканная. Всех прелестнее.
— Была? — спросил Вольфганг. Грусть перепорхнула на его лицо.
— Боюсь, что так. — Гельмут печально уставился в бокал с мартини.
— Неужели… умерла?
— Нет. Пока нет. Думаю, еще жива. Но уже давно очень больна. Скверно больна. К сожалению, у нее сифилис.
— О господи. Не может быть.
— Болезнь на поздней стадии, она сильно обезображена. Вот же злосчастье. Ты ведь помнишь, она была такая сдержанная, всегда в рамках, не то что мы. Говорит, всего один раз допустила ошибку. С кинопродюсером. Она же хотела стать актрисой.
— Да, я помню.
Вольфганга пронзило болью. Настоящей, физической болью. Катарина была его тайной. Смешной тоской о не свершившемся, которую он хранил в шкатулке, спрятанной глубоко в душе. И уже давно в нее не заглядывал. И без того забот хватало. Но сладкое воспоминание о прекрасном, что прошло мимо, было живо.
— Сочувствую, Вольфганг. — Гельмут понюхал вино, предложенное официантом. — Знаю, как много она для тебя значила… Вы не… Или да?
— Нет, никогда. Хоть я был не прочь. Однажды по пьяни попытался, но она поставила меня на место. Мол, не спит с женатиками.
— Возблагодари судьбу. Считай, пронесло. Потому как жизнь несправедлива, жестока и паскудна.
Официант подал суп; некоторое время оба молча ели.
— Что еще сказать? — заговорил Гельмут. — Она от всего отдалилась и переехала к матери. Пару лет назад мы свиделись. Симптомы на время отступили, но она уже была сильно изрубцована.
— Я бы хотел ее повидать.
— Очень сомневаюсь, что она этого захочет. И потом…
Гельмут смолк, разглядывая бриллиант на крышке портсигара. Он не договорил. Но и так было ясно, что несчастной девушке не хватало еще еврея, набивавшегося в друзья.
От него никакого проку. Ни Катарине, ни семье, ни ему самому.
— Наверное, лучше помнить ее прежней, — сказал Гельмут. — Очаровательной красавицей.
За ужином они вспоминали чудесный славный «Джоплин». Отныне память о нем будет проникнута нестерпимой печалью, думал Вольфганг.
Известие о том, что прочие из Куртовой компании весьма преуспели в пробудившейся Германии, ничуть не утешило. Дорф, ученый денежный отмывальщик, теперь служил у Шахта[56] в Рейсбанке.
— По-прежнему мухлюет с долгами, — рассмеялся Гельмут. — С той лишь разницей, что теперь он это делает трезвый. А помнишь Ганса? Ты не поверишь, он в том же деле, что и в двадцать третьем году. По дешевке скупает дорогущие машины тех, кому нужно срочно избавиться от имущества.
Вольфганг кивнул. Интересно, сколько роскошных машин из тех, что в прошлом году прибыли на прощальный ужин Фишеров, за гроши купил и втридорога толкнул старина Ганс? Возможно, среди них был и Фишеров «мерседес».
— Ну и конечно, Хелен, — рассказывал Гельмут. — Помнишь нашу резвушку? Она взлетела выше всех и по-прежнему под финал вечеринки вырубается, но уже в резиденциях послов и танцзалах на Вильгельмштрассе. Подружка Геринга, не хухры-мухры. Он, как известно, падок на милашек.
— Хелен — нацистка? — спросил Вольфганг.
— О да, и не только из удобства. В отличие от меня, национал-социалиста лишь в ясную погоду, она истово верит. Без ума от всей затеи. Обожает стяги, форму. Власть. Искренне убеждена, что Германия пробудилась. Правда, не знает, от чего и к чему. Вот пробудилась, и все. Новый рассвет, молодая нация, чистая кровь. И все такое. Разумеется, истерически влюблена в Адольфа, как и многие в общем-то весьма благоразумные женщины. Все мечтают, как он промарширует в их будуары и жестко прикажет им растелешиться; по стойке «смирно» со вскинутой правой рукой они опрокинутся навзничь, а он известит о своем непреложном желании вкусить их прелестей. Я и сам завзятый ценитель мужской красоты, но в данном случае ни черта не понимаю.
Вольфганг вспомнил давнишнюю Хелен. Молодую и остроумную. Помешанную на модах и веселье. А теперь она помешана на Гитлере.
— У Фишера она ведала закупкой модных товаров, — сказал Вольфганг.
— Конечно, до пробуждения мы все пребывали в еврейском рабстве, — усмехнулся Гельмут.
Вольфганг тоже чуть улыбнулся. Спокон веку у Гельмута не было запретных тем для шуток.
— Она была такая бесшабашная, — сказал Вольфганг. — И душевная, уж я-то знаю. Мы беспрестанно смеялись. Она обожала «Аравийского шейха» и «Авалон».[57] Неужели ее не мутит? В смысле, от всей этой ненависти и насилия.
— Она просто не задумывается, дорогуша. А если задумается, решит, что все это еврейские враки и стенания — ну подумаешь, милые мальчики-штурмовики перевозбудились и слегка увлеклись. Такие как Хелен живут в кайфе и не хотят, чтобы он закончился. Все кайфуют. Ежедневно очередной парад заверяет нас, что мы лучше всех на свете, а это так вдохновляет. Понятно, что людям нравится. Я хочу сказать, что если б Гитлер надумал ополчиться, скажем, на левшей и позволил евреям примкнуть к его банде, вы бы гарцевали наравне со всеми, верно?
— Надеюсь, нет. Я бы не гарцевал. Хотя, конечно, многие стали бы. Но этого не случится. Всегда достается евреям. Вот почему мы здесь.
— Кстати. — Гельмут вынул из кармана авторучку и блокнотик со свастикой, оттиснутой на кожаном переплете. — Это мой телефон. Понадобится помощь — звони. А она понадобится. Говори осторожно, но я обещаю сделать все, что смогу. Ради дружбы и старых добрых времен. — Он вырвал листок из блокнота и встал. — К сожалению, мне пора. Боюсь, меня ждет долгая-долгая ночь в поезде. В твой бар я заглянул, надеясь подцепить компаньона в поездку. Люблю, знаешь ли, свежачок, не могу устоять перед соблазном новизны, но теперь, видимо, скоротаю ночь с книжкой.
— Куда едешь? — спросил Вольфганг. — Наверное, славное местечко?
— В Мюнхен! Колыбель нашего движения, дружище! Родина толстых животов и крохотных мозгов. Слава богу, лишь проездом в Бад-Висзее, на очаровательный курорт. Доводилось бывать?
— Нет. Никогда не ездил в отпуск. То дети слишком маленькие, то времени нет, то денег.
— В те дни Берлин был праздником. Зачем куда-то уезжать, верно?
— Верно.
Обоим взгрустнулось. Гельмут допил вино, залакировал его коньяком и спросил счет.
— Особой прелести поездка не сулит. Сам по себе Бад-Висзее прекрасен, но компания скверная. Гей-гоп! Долг зовет. В трудах без игрищ шеф куксится, и мне надлежит подыскать ему партнеров.