Джойс Оутс - Одержимые
Всю свою жизнь он имел дело с невежами, вроде меня, он устал от них.
Да, его левая кисть была неподвижна и согнута, как птичьи когти, левая нога парализована, а левая часть лица перекошена, словно подтекший с правой стороны воск. «Ну и что с того? — хотела я его спросить. — Профессор Эмеритус, вы такой чертовски умный».
Но тогда, когда они хотят покомандовать вами, они становятся презрительны и саркастичны, хотя за этим чувствуется мольба, слышится дрожащий голос. И больше нет нужды сердиться на них.
Да, вы легко можете их понять. Нет ни малейшей нужды сердиться.
* * *Но вдруг все изменилось, как день, который начался теплым, а потом похолодало. В тот день он был возбужден и отказался от лекарств, и не захотел прилечь поспать, а за ужином вел себя плохо и капризно, как ребенок (выплюнул полный рот протертого питания). Однако я не позволила себе расстроиться, я никогда этого не делаю, это моя работа. Потом около семи часов был ошибочный телефонный звонок, ну просто некстати, от которого он взбесился, говоря, что это была его дочь, а я его от нее прятала и так далее в таком духе, вы представляете, как это бывает с ними. Я пыталась его урезонить, говоря, почему бы ему просто не позвонить дочери, я сама наберу номер, но он только пыхтел и шумел, разговаривая сам с собой. Потом, ложась спать, он сказал:
— Сестра, я сожалею.
Я видела, что он забыл мое имя, и улыбнулась, уверяя, что все хорошо. Но когда его раздели и почти уложили в кровать, он вдруг прослезился, схватил меня за руку и заплакал. Здесь я должна сказать, что не люблю, когда меня трогают. Нет, не люблю. Но я старалась не подать виду, слушая этот бред старика о том, как его вынудили уйти на пенсию в расцвете лет, обещали предоставить ему часы работы с телескопом, то, о чем он всегда мечтал. Они лгали ему, отняв обещанные часы. Это был тот самый радиотелескоп, одним из создателей которого был он, кто раздобыл для него средства. Враги завидовали его успеху, и боялись, что его новые исследования докажут несостоятельность их собственных…
Спустя одиннадцать лет после ухода на пенсию ему надоело слушать эфир в надежде уловить сигналы, необычные позывные, которые могли бы означать радиосвязь с другими галактиками. Известно ли мне, что это значит? И я сказала: «Да». Моему терпению приходил конец в ожидании, когда он уляжется в постель. Мне не нравилось, что он сжимал мою руку своими костлявыми, сильными, как клещи, пальцами. Я сказала: «Да, может быть». Но он продолжал, пуская слюну, что в науке нет работы важнее, чем поиск другого интеллекта во Вселенной, что наше время истекает, и мы должны знать, что не одиноки. И я ответила: «Да, профессор. О, да», — пытаясь развеселить старого человека, помогая ему увлечься. Только он все говорил, как много лет потерял, копаясь в чужих данных, как он нашел прямой подход, используя свои собственные силы, безо всяких устройств. Однажды ночью в прошлом году он принял ясный и четкий сигнал: точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка, точка, тире, точка, точка, точка, точка, точка, тире, точка, откуда-то из Гиад, в созвездии Тельца, с расстояния нескольких биллионов световых лет. Несомненно радиосвязь, а не шум. Но не успел он записать сигнал, как вмешалась статика. Всегда, когда он слышал сигналы из других галактик, их прерывала статика — жуткий шум и звон у него в голове. Я сказала: «Да, профессор, это действительно ужасно, но, может, лучше принять лекарство? Постараться заснуть?» А он сказал, что я могла бы отнести этот материал в газету, это была бы история века, можно помочь всему человечеству, если захотеть. Наконец я оторвала мою руку от его пальцев, не люблю, когда ко мне прикасаются, спросив старого дурака, словно он шутил со мной, а не ныл, как дитя, что, да, профессор, коли на других планетах есть жизнь, как показывают в кино, то не думает ли он, что она нам враждебна, может, они прилетят на Землю и всех нас слопают? А он только взглянул на меня, моргая, и сказал, заикаясь, что… если еще где-то есть разумная жизнь, то это подтвердит нашу надежду. А я спросила, помогая ему лечь и поправляя подушки, про какую надежду он говорил? И он ответил: надежду Человечества… что оно не одиноко. А я сказала с легкой усмешкой, что некоторые из нас не так уж и одиноки.
И выключила свет.
* * *Думаю, что в эту ночь этим все бы и кончилось. Только спать я легла позже и уже готова была заснуть, когда словно скользишь над ущельем. Сон — чувство, которое ценишь больше всего, больше секса, даже любви, потому что без секса и любви прожить можно, полжизни я прожила без них, но без сна я жить не могу. В комнате профессора раздался сильный шум. Я выскочила из кровати, схватила халат и помчалась, надеясь, что у него не новый приступ. Я включила свет, и странная сцена — профессор Эвалд в пижаме съежился в углу за кроватью, он перевернул рядом стоящий алюминиевый штатив, спрятал от меня голову и кричит:
— Ты смерть, да! Ты смерть! Уходи! Я хочу домой!
А я просто стояла, задыхаясь, но делая вид, что не замечаю его, хотя сама была сильно взволнована. Стараясь сохранить спокойствие, я, как должно, стала завязывать пояс халата. Приходится учиться вести себя с ними, как с детьми, словно это игра в прятки. А старик смотрел на меня сквозь пальцы, всхлипывая и умоляя:
— Нет! Нет! Ты смерть! Нет! Я хочу домой!
Поэтому пришлось сделать вид, что удивлена, увидев его в углу, потом взбить подушки и сказать:
— Профессор, вы дома.
Проклятые обитатели дома Блай
В жизни она была девушкой скромной, благоразумной и нормальной, отец которой был бедным деревенским приходским священником в Глингдене. А теперь больно сознавать себя в этом удивительно новом облике, как объект ужаса, если не отвращения. Физического отвращения, если бы вы только ее увидели. Духовного отвращения, если бы подумали о ней. Приговоренная к вечному отмыванию своего мраморного тела от нечистот Азовского моря, в особенности интимных мест, обреченная с фанатичной тщательностью выскребать радужных жучков из все еще блестящих, упрямо вьющихся черных волос, которые ее любовник назвал «шотландским завитком», чтобы польстить ей: ибо правда, произнесенная вовремя, тоже бывает приятной. И не только любовник, дворецкий хозяина, но и сам хозяин откровенно ей льстил: «Я вам доверяю! Со всей ответственностью!»
С ней, двадцатиоднолетней мисс Джесел, беседует хозяин на Харлей-стрит. Она одета в единственное приличное платьице из хлопчатобумажной саржи. Как горит ее лицо, как влажны глаза, как обмирает она от робости, встретившись с любовью. Удар, который был не менее ощутим, чем шлепок рукой по ягодице. А позже в Доме Блай, онемевший от любви или ее гримасы, дворецкий хозяина, Питер Квинт, рассмеялся (не грубо, действительно ласково, но все же рассмеялся) при виде ее покорной наготы, мурашек, покрывших ее тело, изумительных опушенных туманно-темных глаз, ослепших от девичьего стыда. О, смешно! Теперь Джесел, как смело она себя называет, вынуждена кусать губы, чтобы не завыть от смеха, точно зверь, при этих воспоминаниях. Чтобы не сорваться, здесь в катакомбах, приходится вообразить цепь, прикованную к ошейнику, а то можно упасть на все четыре и помчаться за добычей (испуганной мышью, судя по тонкому писку и шуму торопливых лапок).
Катакомбы! Так пренебрежительно и обидно называют они это влажное, прохладное, темное место, пахнущее старинным камнем и сладковато-кислой гнилью, куда привел их Переход. Фактически, на самом деле место их убежища представляет собой неромантический угол заброшенного погреба в подвале огромного уродливого Дома Блай.
По ночам, конечно, они вольны странствовать. Если вынужденность их положения (она, страстная Джесел, более восприимчива, чем он, холодный устрашающий Квинт) становится невыносимой, они идут на риск тайных вылазок, даже днем. Но по ночам! Ах! Ночи! Вседозволенность, экстравагантность! Ветреными ночами, освещенный лунным светом, Квинт догоняет голую Джесел на центральной лужайке Блая. Похотливый смех вырывается из его горла, он тоже полуголый, согнувшийся, как обезьяна. Джесел, похоже, преследует добычу, когда наконец он настигает ее на берегу заросшего пруда. Ему приходится заглянуть в ее изящную, но дьявольски сильную пасть, разжать ее, чтобы вытащить оттуда хромое, окровавленное, еще живое пушистое существо (крольчонок? Джесел все равно).
Наблюдают ли дети из дома? Прижаты ли к стеклу их маленькие, бледные, любопытные личики. Что такого видят малыши Флора и Майлз, чего проклятые влюбленные не могут видеть сами?
* * *В моменты просветления Джесел рассуждает: как такое возможно, что девушкой, живя в суровой семье приходского священника на границе Шотландии, она не могла есть хлеб, который обмакнули в жир, мясная подливка была ей противна, потому что она напоминала о крови. Со здоровым аппетитом она ела только овощи, фрукты и крупы. Но теперь, спустя едва год, в катакомбах Дома Блай она испытывает экстаз от хруста нежных костей, ничто так не сладко ей, как теплая, обильная, еще пульсирующая кровь. Ее душа кричит: «Да! Да! Вот так! Только бы это никогда не кончалось!» — в ужасе понимая, что ее вечный голод, если не будет удовлетворен, то может исчезнуть.
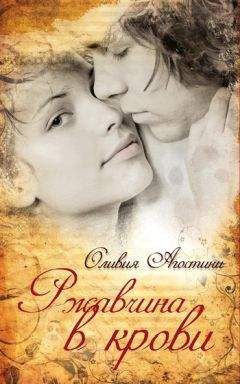
![Мерри – [email protected] - 9 и 1/2 недель](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
![Владимир Ионов - [email protected]](/uploads/posts/books/109088/109088.jpg)