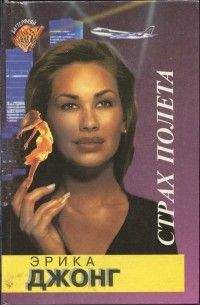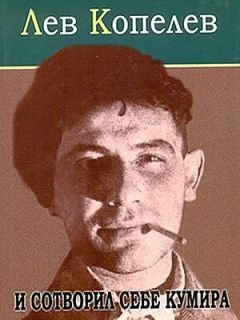Лев Копелев - И сотворил себе кумира...
Он говорил, не повышая голоса. В глубоко посаженных, маленьких, чуть раскосых глазах — ни искры. Большая самокрутка — козья ножка, свернутая из четверти листа районной газеты, — дымилась равномерно. Только широкие руки сжимались в кулаки и косточки белели.
Так же негромко, ровно и внятно разговаривал он на собрании, которые каждый вечер собирались по „куткам“. Большое село делилось на несколько кутков (то есть углов), охватывающих от 50 до 100 хозяйств. Сельские исполнители и колхозные активисты приглашали-пригоняли в хату тех, кто не выполнил план хлебозаготовок, и потом следили, чтобы никто не ушел без особого разрешения.
Обычно начинал Ващенко. Он рассказывал о том, сколько по селу уже сдано хлеба, сколько еще нужно сдать. Называл злостных несдатчиков и подробно докладывал, где и у кого нашли спрятанный хлеб.
— …Он думал, он самый хитрый. Закопал на дальнем поле. Да только мышей не перехитрил. Нашли мыши его яму. А за ними и лиса. А там хлопцы, которые охоту любят, заметили, чего это лиса все на одном месте, на одном поле мышкует. Так и открыли ту хитрую яму. А зерно уже пополам с мышиным говном. Ну, хозяина, конечно, забрало НКВД. Поедет теперь туда, где зимой и солнца не видать. А семья без хлеба осталась. Выходит, он враг не только державе, он и своим детям самый злой враг.
Потом говорили приезжие: районнные заготовители, мы с Володей, местные активисты-комсомольцы, колхозные бригадиры.
Все выступавшие сидели за столом, под иконами. На белой стене темнели большие рамки, начиненные разнокалиберными фотоснимками. Николаевские солдаты в лихо заломленных бескозырках. Девчата в венках с лентами. Красноармейцы в буденновках. Остолбеневшие перед фотоаппаратом дядьки в жестких картузах или барашковых шапках, в расшитых рубахах и городских пиджаках. И тут же цветные картинки из старых журналов, открытки с усатыми запорожцами, пляшущими гопака.
На скамьях и просто на полу у печки тесно сидели насупленные бородачи, усачи в кожухах, в серяках, молодые парни, сонно равнодушные или презрительно угрюмые. Отдельными кучками сгрудились бабы и девки в темных платках, повязанных замысловато кочанами или накинутых шатрами поверх светлых косынок, в суконных полушубках, — там их почему-то называли „юпками“, — обшитых по вороту и по груди светлыми овчинными полосками.
Густо клубился сине-сизый махорочный дым в зыбком полумраке. Еле-еле светились самодельные свечки или лучины, реже — керосинка. Села, не выполнившие план хлебосдачи, заносились на „черную доску“ и подлежали „товарному бойкоту“. Лавки закрывали. Нельзя было достать ни керосину, ни гвоздей.
Каждый раз, начиная говорить, я хотел доказать этим людям, что они страшно ошибаются, утаивая хлеб, что они вредят и всей стране и самим себе. Я старался поменьше повторяться, хотя ораторствовать приходилось на нескольких собраниях за день. Я рассказывал, как трудно живется рабочим в городах и на строительствах. Они работают по две, а то и по три смены, без выходных. Их жены стоят в очередях, потому что не хватает харчей, не хватает хлеба. И все потому, что нашей стране со всех сторон угрожают смертельные враги. И значит, надо напрячь силы, чтобы срочно выполнять планы. И необходим хлеб…
Я рассказывал о всемирном кризисе (тогда мы еще не знали, что он уже пошел на убыль). Говорил о немецких фашистах, о японских войсках в Маньчжурии, о коварстве польских панов. Все они готовились напасть на нас, хотели завоевывать, порабощать, грабить.
Говорил я лишь то, в чем сам был убежден. И каждый раз увлекался, кричал, размахивал руками. Слушали, — мне казалось, — внимательно. Бабы переставали шептаться. Никто не выходил курить, не ругался за дверью с исполнителями, удерживавшими подозреваемых в намерении удрать… И, разумеется, я всячески поносил, проклинал кулаков и подкулачников. А всем, кто злонамеренно или по несознательности утаивал хлеб, грозил презрением народа и карающим мечом пролетариата.
Уполномоченный тоже ходил на такие собрания, несколько раз бывал на тех же, что и мы. Он никогда не сидел с нами за столом и не произносил речей, а пристраивался где-нибудь сзади.
Ващенко снова и снова призывал:
— Кто хочет вступить и добровольно объявить, что выполнит свой долг?
Иногда поднималась рука. Вставал парень или разбитная баба.
— Завтра я, може, достану. Родня обещала мешка два. Тогда отвезу.
Таких сознательных громогласно хвалили, отпускали домой спать. А на следующий день выходила наша газета-листовка: „Слава честному селянину, ставшему на путь выполнения долга перед народом. Следуйте его примеру!“
Но обычно после нескольких тщательных призывов, Ващенко начинал поименно выкликать к столу должников.
— Ну, гражданин Дубына Степан, в который раз мы с тобой тут балачки балакаем?.. Чего молчишь? Тебя спрашивает Советская власть — сколько раз мы тебя уже вызывали?
— Нэ памъятаю. Нэ рахував.
— Ах, ты еще смешки строишь! Шутки шуткуешь. Ну, а я тебе серьезно говорю, очень серьезно. Мы тебя уже четырнадцатый, чи нет, пятнадцатый раз вот так спрашиваем. Когда выполнишь?
— Немае у мэнэ ни фунта хлиба… Вже й даты макуху едять…
— Так, значит, хитруешь? Сколько ты сеял? Пять с половиной гектаров сеял. Точно известно: было у тебя пшеницы два гектара и жита полтора. А еще и горох, и ячмень, и овес, и подсолнечник, и кукуруза на двух гектарах. Ты не бреши, я твои поля знаю. Черного пара у тебя не было. Так сколько ж ты собрал? Сколько копычек? Ты не хитруй, не бреши, сколько?.. Не помнишь уже? Такой ты, знаешь, хозяин лядащий, что своего урожая не помнишь! Ну, так я тебе напомню. На твое поле не другое какое солнце светило. И дождики тебя не обходили. Значит, собрал ты пшеницы двадцать четыре центнера. Ну, нехай двадцать два. А сколько ты сдал? Всего и с кукурузой и с ячменем только восемь центнеров! Еле-еле на сорок процентов задания. А задание у тебя твердое. Мы тебя, гражданин Дубына Степан, знаем, кто ты есть. Советская власть все знает. Я ж сюда не сдалека приехал, не с Харькова, не с Москвы. Я ж еще помню, как ты женился. В тот самый год, когда молонья сожгла панское сено. Ты ж даже новых чоботов не имел. У старшего брата, у Тараса, чоботы брал на свадьбу. Мы знаем: ты с бедняков. Но только своего классу цурался. Вот я тут при всех людях считаю: сколько тебе на семью хлеба нужно. Кладем один пуд на душу в месяц. Считаем всех твоих, и старых и малых, и тех внуков, что титьку сосут. Вас всех — девять душ. Считаем по-царски — девять пудов в месяц. Полтора центнера. Значит, за зиму вы от силы шесть центнеров съели. У тебя ж ячмень есть и кукуруза. Так где ж они, все другие центнеры? Не знаешь? Если ты их не сховал, значит, продал. Закон преступил! Задание хлебосдачи не выконал,[35] а спекулюешь. Наш план подрываешь и тайно загоняешь хлеб перекупщикам. Знаешь, какая кара за это?
— Рубайте мне голову!.. Не маю ни фунта! Ни зернинки.
Именно эти слова в таких ночных разговарах звучали чаще всего: „рубите мне голову!“ Их произносили кто сумрачно, яростно, кто слезливо, надрывно, кто обреченно, устало, почти равнодушно.
— Рубайте мне голову. Нет ничего в хате. Ни фунтика.
Бабы часто плакали, кричали, отругивались.
— Та шоб я своих диток больше не видела! Та шоб очи мне повылазили!.. Не сойти с этого места, если брешу!.. Шоб меня паралик разбил, руки-ноги поотсыхали! Шоб мне до смерти добра не видать! Не брешу и не брехала сколько живу! Присягну, забожусь, нема ни зернинки, ни крыхточки! Рубайте мне голову от туточки на пороге!
Ващенко тяжело грохал кулаком по столу, но говорил так же спокойно и ровно:
— Годи! Хватит! Сидай и сиди, пока не надумаешь! Пока не пообещаешь, что надо. Сиди и домой не просись, не пустим.
Так из ночи в ночь. Иные собрания продолжались непрерывно по двое-трое суток. Активисты у стола сменялись. Мы чередовались, уходили, или спали тут же, откинувшись к стенке, урывками, в чадной духоте. Спали и многие крестьяне, сидевшие и лежавшие на полу.
Ващенко был самым неутомимым. Снова и снова наседал, допрашивая очередного несдатчика. Ему вторили и другие, сидевшие рядом, просыпаясь или силясь не задремать. Задавали все те же вопросы, кто поспокойнее, а кто криком. Повторяли все те же призывы и угрозы.
И я тоже не раз приставал к понурому, сонному дядьке, осовевшему от надсадного галдения, от духоты и бессонницы.
— Неужели же вы не понимаете? Вы только подумайте: ведь рабочие — ваши братья, ваши сыны. Они ждут хлеба, просят хлеба, чтоб жить, чтоб работать. Ну, подумайте.
Женщину, утиравшую мокрые от пота и слез щеки концами бахромчатого платка, повязанного кочаном вокруг головы, я уговаривал:
— Вы же сами мать, вы ж своих детей любите. Ну, вот представьте себе, как матери в городах сейчас плачут; не знают, чем кормить своих малых. Вы их пожалейте и своих пожалейте. Ведь тот хлеб, что вы спрятали, вы и у своих детей забрали. А если вас накажут, что будет? Ваши дети без матери голодные останутся.