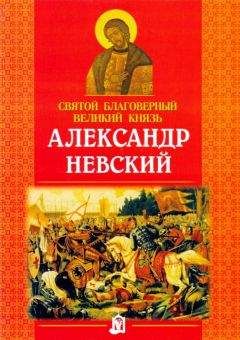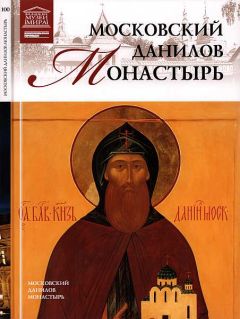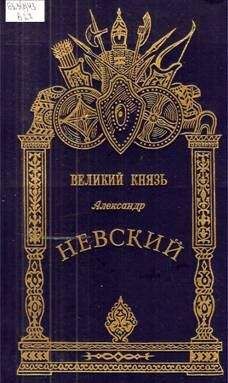Адриан Гилл - Поцелуй богов
— Ты веришь в судьбу? — встрепенулся Джон. — Я в свою не верю!
— Опомнись, я всего лишь продавец. У нас не судьба, а доля, причем отличная от той, что у Ли и у тебя. Оксфамовская доля, сэкондхэндовская доля. — Клив поднял на Джона серокаменные влажные глаза. — Я ее очень люблю. Ты ее так сильно обидел. Мне ясно, что ты видишь это по-другому, но я вижу ее. Она как раненый зверек, а я ничего не могу поделать. Я понимаю алгебру твоих проблем, но, откровенно говоря, не сочувствую. У меня свои проблемы, и мой воротничок теснее твоего. Извини, мне надо возвращаться на работу.
Они смущенно стояли на улице.
— Увидимся. Я тебе позвоню, — проговорил Джон.
— Конечно. — Клив посмотрел на часы и собрался уходить.
— Мы по-прежнему приятели?
— Не пори чушь, — усмехнулся Клив. — Я тебя всегда ненавидел… Не сомневайся, приятели. — Он обернулся и неестественно, будто водолаз в скафандре, обнял Джона. Так американцы обнимаются в дневных телесериалах. Но в данном случае неудачное установление необходимого ритма имело иную природу — они ничего не могли поделать: события вышли из-под контроля — естественный ритмический сбой.
— Дай мне выпить. — Ли прислонилась к двери.
— «Гибсон»?
— Да… хотя, нет… Мне нельзя пить. Черт! Ограничусь чаем.
— И как все прошло?
— Чудесно. Прочитали текст. Познакомились, как в первый день в школе. Стюарт произнес небольшую речь. Вру, длинную и очень путаную. Потом долго жали руки и вздыхали. Сели в кружок и стали читать. То есть читала я, а они все знали наизусть.
— Не может быть, чтобы все.
— Паиньки из хора от корки до корки. Другие иногда заглядывали в текст, чтобы я не чувствовала себя совсем идиоткой. Ах, Джон, они в самом деле что надо. Читали, а казалось, будто говорили. Все их проклятущий выговор. Стоит сделать ошибку в английском выговоре — и складывается впечатление невероятной глубокомысленности. Знаешь, что они спрашивали? «Сту, мне вдохнуть на этом слоге или на следующем?» А я вообще понятия не имею, как надо дышать.
— Уверен, что дела не так плохи и ты все сделала, как надо.
— Ни черта не как надо. Как долбаная американка, которая не знает, как дышат в Королевской шекспировской компании.
— Сегодня только первая репетиция. Хочешь вечером куда-нибудь сходить? С кем-нибудь увидеться?
— Ты что, ненормальный? Мне надо учить. Съем яблоко в спальне.
Так она и поступила.
Джон посмотрел на кухне телевизор, а в двенадцать поднялся наверх. Ли сидела в постели. Он скользнул рядом, провел ладонью под рубашкой, поцеловал в шею. Ли отвела его руку, раздраженно поежилась, плечо с отчетливым хрустом врезалось в его подбородок.
— Перестань, Джон. — Тон был холодный и властный. — Нет времени. Надо заниматься.
— Извини.
— Ничего.
Джон выскользнул из кровати.
— Что-нибудь хочешь?
— Нет. Помолчи.
Он начал раздеваться. Ли подняла глаза и состроила гримасу, словно перед ней было нечто чрезвычайно досадное.
— Ты не станешь возражать, если я попрошу тебя сегодня спать в комнате для гостей?
— Конечно, стану.
— Господи, Джон, выметайся! — закричала она. — Невелика просьба! Мне надо побыть одной!
Некоторое время он глупо стоял с выпущенными из брюк фалдами рубашки.
— Хорошо. Увидимся утром за завтраком.
— Боже!
Но они не увиделись.
Джон слышал, как Ли поднялась, как ходила по комнате, разговаривала сама с собой, повторяла роль. Вышла в коридор, постояла у его комнаты и двинулась дальше. Джон заглянул к ней в спальню: на полу следы мокрых ступней, в воздухе насыщенный аромат утреннего мыла, дезодоранта, зубной пасты и косметики и мускусный запах сна. Он забрался на ее половину — постель все еще хранила тепло ее тела, на подушке лежал волосок. А его половина — невзбитая, несмятая и холодная. Его разбудил телефон.
— Алло?
— Джон, вылезай из кровати, принимай душ и беги сюда. Между прочим, это Айсис.
«Кракен» стоял на якоре у Чаринг-Кросс, что выглядело абсолютным абсурдом. Тридцатифутовый корабль викингов торчал рядом с «Иглой Клеопатры»[68]. Драконья голова пучила глаз на набережную с опозданием в триста лет. У парапета десятки грузовиков и фургонов, гудение генераторов. Змеились провода, важничающие молодые люди в майках и джинсах носили переносные рации и одновременно по ним говорили. В атмосфере витала энергичная уверенность и запах свиного жира. Не иначе снималось кино.
Джон подошел к одному из радионосящих парней и произнес с вопросительной интонацией:
— Айсис?
Тот подозвал другого радионосителя, и Джону указали на толстобокий «Уиннебейго»[69] — своего рода пиратский галеон конца двадцатого века, мародер океана культуры.
Айсис сидела перед зеркалом и ела булочку с сахарной пудрой, а перед ней на эту самую булочку жадно косилась гримерша с тряпичным комком в руке.
— Входи, Джон. Только посмотри — мой собственный трейлер. Здорово? Душ, холодильник со всякими ребячьими роквкусняшками. Кстати, хочешь? — Она достала пирожное.
— Нет, спасибо. Если только чашечку кофе.
— У нас своя кофеварка.
До этого явно сложенный где-то в шкафу объявился японец с общипанными волосами.
— Мой шеф, — прошептала Айсис. — Садись. Хочу тебе кое-что сказать.
Джон сел. Айсис была одета принцессой викингов — как ее представляли прерафаэлиты: с круглыми бляхами на груди, в кольчужной мини-юбке. Руки и ноги увешаны руническими браслетами. Ожившая иллюстрация к странице три Беды Достопочтенного[70], да и только.
— Твое стихотворение, на которое я написала музыку. Помнишь?
— Конечно.
— Оно понравилось. В Голливуде. Класс! У меня будет сингл. Рождественский сингл.
Джон сознавал, что следовало бы испытать нечто иное, кроме легкого неудобства от того, что не знаешь, что сказать, когда сообщают, что твое стихотворение превратится в рождественский сингл. Он встал, произнес: «Как мило», — неуклюже наклонился, поцеловал Айсис и при этом зацепил щекой с булочки крем.
— Потряс! Тебя впечатлило?
— Да. Хотя я мало смыслю в поп-записях. Раньше как-то не случалось.
— А на этой смешной посудине мы одновременно снимаем видео. Поэтому я тебя сюда притащила. Хочешь участвовать? Будешь берсерком с копьем. Я тебе припасла рогатый шлем.
— Очень мило с твоей стороны. Но я лучше посмотрю.
Съемка клипа показалась Джону невероятно утомительной и скучной, как любой акт творения произведения культуры, кроме разве что гравировки молящегося на крупинке зерна. Айсис изображала на корме куски песни, а «Кракен» в это время таскали по Темзе от собора Святого Павла до Вестминстера. Джон сидел за спиной директора Бода и смотрел, как Лондон проплывал то вправо, то влево.
Он вспомнил Генделя, когда тот впервые исполнял с оркестром на корабле свою «Музыку на воде», и корабль, подгоняемый веслами, бешено несся вдогонку за немцем Георгом. Джон представил его во влажном парике. Гендель пытался дирижировать, и они, качаясь, катились по вонючей реке. Величественная, прозрачная музыка перехлестывала через борта, струилась по планширу, искрами звуков сверкала на желтой гуще растительной слизи и нечистот, а мимо проносило дохлых собак и гнилую капусту.
Подумаешь об этом — и делается так же смешно, как в конце двадцатого века услышать на древнеисландском корабле стишок о спящей в квартире на Шеферд-Буш девице.
— Что скажешь? — Они вернулись в трейлер, и Айсис обрядилась в махровый халат.
— Очень впечатляет. Только не пойму, при чем здесь корабль десятого века, если речь идет о постели двадцатого?
— Ну, так, Бод навоображал. Он у нас на этой неделе гений. Да какая разница? Что ты думаешь о песне?
— Честно говоря, я ее не слышал. Одни куски и отрывки.
— Надо было сказать. Иоко, включи запись и принеси мне хот-дог.
Шеф поставил большой поднос суши, почтительно осклабился и включил музыку. Поп-звезды!
Джон изобразил внимание и приготовился слушать. Прозвучало большое оркестровое вступление, затем барабанная дробь и наконец, перекрывая все, как военно-воздушный парад, сверхзвуковой с огненным прирыкиванием голос Айсис: «Я смотрел, как ты спишь».
И снова Джон не знал, что почувствовать. Песня звучала грандиозно — отполированно, приукрашенно, как всякое дорогое творение масс-продукции. Похоже, будто открывали флакон с духами, или в сумке шуршала папиросная бумага, или гудели автоматические ворота. Шикарные, аппетитные звуки, очень подходящие к концу двадцатого века, но совершенно не его.
Джон попытался вспомнить напряженное лицо Петры с ее гордиевыми бровями и серую подушку. Запах холодной спальни. Вызвал из небытия ощущение расставания. Попробовал вспомнить, каковы на ощупь его липкие носки, боль в спине, неуклюжесть пальцев и молчание. Но понял, что эта картина возникнет из целого мира в одной его голове. Только он сможет представить подобный зрительный ряд. А другие — длинноногую Айсис на корабле викингов или своих любовниц, но в других спальнях и в другое время. Стихотворение, как вся поэзия, было необыкновенно личным. Слова открывали секрет, тяжелую дверь, служили комбинацией к сейфовому замку. Читатель находил в них особенное, свое, совсем не то, что подразумевал автор. В этом глубокая магия, грустная магия. Автор надеялся, что делился чем-то своим, но на самом деле все было не так.