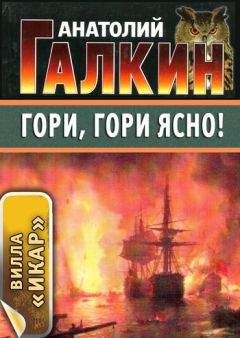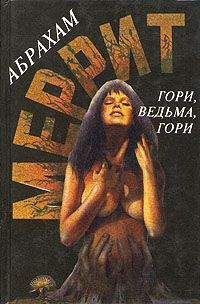Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 3, 2004
Может быть, немного странный пример, но в вальдорфских школах есть дивный предмет — «Рисование форм». Объяснить трудно, это надо видеть, а еще лучше — попробовать самому. Это вообще одно из моих самых сильных впечатлений в жизни, такая детская «аналитическая геометрия» — но без формул, правополушарная. Дает ощутить на подсознательном уровне и стабильность формы, и ее текучесть, все эти взаимопревращения и взаимопроникновения. Кроме чисто прикладных задач вроде развития мелкой моторики пальцев и усвоения элементарных графических навыков такое рисование вызывает и чисто эмоциональные переживания, и подсознательные впечатления о том самом всеобщем изоморфизме. Как гравюры Мориса Эшера, в которых изначально присутствовали математические закономерности, описанные математиками лишь десятилетия спустя.
Так и в поэзии — некоторые ощущения, сильно и беспрекословно зацепив сознание или подсознание, абстрагированию и вербализации поддаются не прямо и не сразу. Формулировки приходят потом, да что там формулировки — смысл тоже дается не с ходу. Разобраться в этом потоке я попыталась позже, когда радость узнавания была не так горяча и настало время «ума холодных наблюдений».
Наталья Иванова в своей статье «Циклотимия. Жертвенник сердца» («Арион», 2002, № 2) назвала монотонность одной из опасностей, подстерегающих Кекову, а в качестве другой опасности упомянула «старательность», приводя примеры тщательно выверенных созвучий. Однако именно эти приемы (монотонность, повторы, эвфония) усиливают суггестивность текста Кековой, создавая тот самый тайный эффект внушения, который прямо не выводится из семантического спектра речи, а оказывается сродни музыкальному и даже скорее ритмическому воздействию. Многословие? И оно неотъемлемо от этой поэтики — не соли, а соленой воды. Энергия и текучесть — свойства воды, поэтому материнской субстанции должно быть много. Оптика такая, монотонное волнение, мерцание смыслов. И вообще, музыки много не бывает. Поэтому преобладающие стихотворные размеры здесь — укачивающие, колыбельные, чаще всего трехсложники. Музыку приумножает и сложная, виртуозная строфа. Монотонность, которая не надоедает, а притягивает — как колыхание прибоя, полыхание пламени. «И только плач и боль в груди от звука низкого, гортанного».
Ее творчество выражает одну из самых интимных сторон человеческой психики — выяснение отношений с мирозданием. «Моего тот безумства желал, кто смежал этой розы завои…» — слова Фета наиболее точно передают основы такого мирочувствования. «Священное безумство», навеянное ощущением гармонии мира, мне кажется вообще отличительной чертой поэзии. У самой поэтессы об этом же: «Cоловей, возносящий молитвы Богу… в беспамятстве свищет свои псалмы».
В доныне актуальной работе К. Г. Юнга «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» рассматриваются две возможности рождения художественного произведения. В одном случае «автор пускает в ход… всю силу своего суждения и выбирает свои выражения с полной свободой. Его материал для него — всего лишь материал, он хочет изобразить вот это, а не что-то другое». Но есть другая возможность — когда произведения «буквально навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и он пишет вещи, которые ум его созерцает в изумлении… Пока его сознание вольно и опустошенно стоит перед происходящим, его захлестывает потоп мыслей и образов, которые возникли вовсе не по его намерению и которые его собственной волей никогда не были бы вызваны к жизни». Юнг представлял себе такой процесс творческого созидания «наподобие некоего произрастающего в душе человека живого существа… здесь естественно было бы ожидать странных образов и форм, ускользающей мысли, многозначности языка, выражения которого приобретают весомость подлинных символов, поскольку наилучшим возможным образом обозначают еще неведомые вещи и служат мостами, переброшенными к невидимым берегам». Это в полной мере можно отнести к «Коротким письмам».
Понятно, что поэтика Кековой растет из метаморфоз Заболоцкого. Это мир, выстроенный не логически, а мифологически — когда нет границ между живым и неживым, антропологическим и геологическим, необходимым и случайным. В нем существуют «воды кристаллы», «свет растет, как лес», «рыбы в море роют норы, дыры делают в воде», а еще «в гробах, как бы в кабинах, спят мертвецы на склоне лет» и мелькает «распрекрасная Италия, где холера и чума юных дев берут за талию и ведут в свои дома».
Видишь — в язвах незалеченных яблонь темная листва?
На деревьях искалеченных спят лесные существа —
спит фита, и дремлет ижица, ять ползет из-под руки,
по стволу большому движутся в жестких панцирях жуки.
Но если у Заболоцкого эмоциональной доминантой является зачастую недоумение и отвращение («страхом перекошенные лица ночных существ», судороги умирающей речки, и вообще природа — «давильня»!) и гораздо реже — восхищение «разумом», то у Кековой доминируют другие чувства — восхищение и стыд. Конечно, фактура и пластика ее образов генетически вырастают из поэзии гениального предшественника, но поэтический мир одухотворен не разумом, а любовью, и начинает она с восхищения Творцом, стыдясь перед ним своего и вообще человеческого несовершенства. Стыд этот порою обнажен и мучителен, порою мягко закамуфлирован, но присутствует всегда. Он иногда прорывается и на словесный уровень («Виноватых нет и правых. Бог, прости свою рабу!», «Мой дух не в силах тело побороть», «Перед Богом мы оправдаться ничем не можем»), но чаще разлит между строк и присутствует скорее на уровне интонации. Тут уж не игра концептов и метафор и вообще — не игра. Это живое страдание, живое продирание сквозь тернии смыслов, и читать это — подлинно и больно.
Лирическая героиня «Коротких писем» выстраивает мир, где «дух и плоть близнецы», «материя превращается в язык», «Гоголь спит, держа в руках уду, Ахматова ныряет хищной щукой, и птица Сирин правит ветра слог», это уже не просто метафорика, а другая геометрия пространства, неэвклидова, что, в общем-то, свойственно хорошей поэзии вообще. Здесь присутствует то самое ощущение, а именно «чувство тайны», о котором Павел Флоренский писал: «Большинство, по-видимому, слишком умно, чтобы отдаться этому непосредственному чувству и выделить особые точки мира, — и в силу этого бесплодно. Это не значит, что они не способны сделать что-нибудь; нет, сделают и делают, но в сделанном нет особого трепета, которым знаменуется приход нового, творческого начала». Не об этом ли чувстве говорил и физик Андрей Сахаров: «Мое глубокое ощущение (даже не убеждение — слово „убеждение“ тут, наверно, неправильно) — существование в природе какого-то внутреннего смысла».
Поэтика Кековой держится на равновесии двух противоположных чувств — строгого подчинения внутреннему смыслу мира, но и вольного парения языка, на котором можно говорить об этом. Она живет этим нелинейным мироощущением, отсюда и выросшие естественно, как растения, главные стилистические приемы. Первый из них, конечно, — метафора. Особенность метафоры в этой поэтической системе — то, что сама система является сплошной развернутой метафорой, поэтому поэтессу трудно цитировать, вычленяя из общей массы отдельные концепты.
Еще одна особенность — кажущийся переизбыток имен собственных. Вот простой перечень тех, которые мне встретились в книге, — Рим, Стикс, Аарон, Мандельштам, Блок, Немезида, апостол Петр, Тамбов, Саратов, Япония, Нил, Лапландия, Италия, Памир, Бергильмир, Асклепий, Италия, Монтеспан, Байрон, графиня Гвиччиоли, Греция, Дант, Боэций, Кант, Конт, Китай, Волга, Один, Валхалла, Танаис, Янцзы, Аид, Дамаск, Эдип, Фивы, Расин, Корнель, Стамбул, Вифлеем, Венеция, Бремен, Ницца. Что это — демонстрация эрудиции? Ничуть. Во-первых, к именам у автора отношение особое. Называние предмета — как проникновение в его сущность, поэтому поэзия названий — дорациональна, этим и волнует. Так что это — тоже прием. А во-вторых, будучи включенными в метафору, они дают возможность еще большего расширения смыслового пространства.
Наталья Иванова, говоря в той же статье о ключевых образах поэтического мира Кековой, называет их «банальными словами с давно утерянным, казалось бы, смыслом», хотя и отмечает легкость преодоления поэтессой такой банальности. Но в этом и есть смысл того, что делает Кекова, — сознательно работая на уровне архетипических символов, то есть традиционных, универсальных, сопрягающих прошлое и настоящее, общее и частное, потенциальное и свершившееся, она создает поэтику, принципиально нацеленную не на поиск нового, а на оживление традиционного, вечного.
Ее излюбленные образы — свет, любовь, ангел, вода, облака, сад, трава, свеча, луна, сети, соль, слово. В книге Кековой мало артефактов, но много природного — птиц, рыб, цветов, и это, как ни странно, роднит ее тексты с китайской классической живописью, сквозь них загадочно и своенравно проступает Восток.