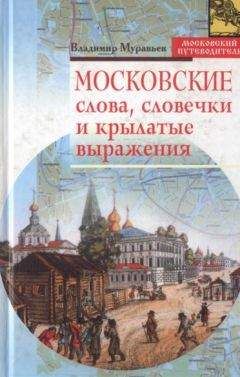Евгений Гропянов - В Камчатку
А сейчас шел спор о камчадалах. Мартын Петрович Шпанберг, умница в морской науке, обольстительный офицер для женщин и вздорный человек в мужской компании, потому что после бутылки вина лез в драку, язвительно шутил:
— Что вы носитесь со своей школой? Добро бы она прибыль давала. А так… Я просто не понимаю вас… Образованный человек и вдруг — благотворительность… Им бы чего попроще. Скажем — ать, два.
Стеллер, не любивший насмешек, поджал губы, однако с упрямством продолжал:
— Школы будут по всей Камчатке. В Большом остроге — только первая ласточка. В Верхнем, в Нижнем построить… На Тигиле. Учителей найдем. Сам обучением займусь. Надо поднять этот народ. Он ко многому способен.
— Даже детей рожать, — вставил Шпанберг.
— Вы далеко заходите!
— Милый мой, — попытался смягчить гнев Стеллера Мартын Петрович, положив руку на его плечо. — Милый мой. Мечты ваши — утопия. Поймите меня. Камчатку я знаю. Здесь нужны тысячи, а у вас их нет. И школа в Большом остроге прогорит, и будете вы осмеяны прежде всего камчадалами. Русские поймут. Камчадалы — нет. Не спорьте…
Поняв всю безнадежность разговора со Шпанбергом, недовольный собой, что не сумел ничего доказать лейтенанту, Стеллер оборвал разговор. Они могли бы разругаться, но тут появился Иван Гуляев, вежливо поклонился Шпанбергу, на что последний ответил небрежным кивком, и его всегда румяное лицо поскучнело. В присутствии худого Гуляева он казался себе маленьким, хотя был среднего роста и широк в плечах.
— Я посоветоваться, — обратился Гуляев к Стеллеру.
Лицо Шпанберга побледнело. В его присутствии… ссыльный… на равных… И как это Стеллер, ученый всеми уважаемый, позволяет советоваться? Не лучше ли приказать, а там — ать, два. Так надежнее и проще. Пренебрежительно скривив пухлые губы, он церемонно раскланялся, и от его взгляда не ускользнуло, что Иван Гуляев подавил усмешку, а Стеллер еще больше нахмурился и стал похож на взбитого ветром воробья, только очень большого.
А дела со школой были совсем плохи. Не только не хватало дров — можно заплатить казакам, и дровами завалят, — но и чистой бумаги. Береста хороша, но сколько же можно писать на этих хрупких прозрачных листочках… Пора детей приучать к бумаге. Придется в приказной избе кланяться, авось уважат. И судьба велит идти самому, у Гуляева прав никаких… Тут еще камчадалы на реке Утхолок взбунтовались. А здешние детей из школы забирают. Дома помогать надо, говорят. Шаманы в бубны ударили: портят русские детей.
Пришел камчадал в школу, говорит:
— Детей наших с собой возьмете, да-да? Так ли?..
Стеллер камчадала усадил на лавку, вложил в руки перо, сказал:
— Пиши.
Повертел камчадал недоуменно перо, пальцы чернилами испачкал, крестик кое-как вывел. Ничего больше не получается.
— А твой сын писать умеет. Смотри. — Стеллер подал берестяной листок.
— И-и-и-и! — удивленно протянул камчадал и с любопытством стал разглядывать сыновье письмо. — Большим человеком будет, шаманом будет. Большую силу будет иметь.
— Хоть и шаманом, — вздохнул Стеллер. — Но ты сына приводи и с сородичами поговори, пусть не боятся. Ты же видел, ему здесь хорошо.
Кивнул головой камчадал, ушел. Назавтра полная школа, на лавках еле умещаются. Стеллер радуется, Иван Гуляев пот со лба утирает, в усы усмехается: пошли дела.
5Стеллера растолкали ночью. Узнав, что от Беринга из Петропавловской гавани пакет доставили, быстро оделся.
Острог будто и не засыпал. Горели факелы, грызлись собаки.
Перед приказной избой спорили о чем-то казаки. Завидя Стеллера, поклонились.
— Что происходит? — спросил Стеллер.
— Камчадалов привезли вот… Изменников утхолоцких…
— Где они?
— В казенке, — ответил тот же простуженный голос.
Дверь приказной избы распахнулась, вышел нарочный.
Стихли, думая, что о чем-нибудь известит. Нарочный молчал и держался независимо. Лишь поинтересовался, где отхожее место.
В приказной избе дым стоял коромыслом, хоть топор вешай. Читали приказ капитана Беринга. Он был коротким: камчадалов держать в строгости.
Приказной дьяк, командир острога и десятник кляли иноземцев: хлопот и так полон рот, а тут за ними наблюдай да корми.
— Каков срок? — поинтересовался Стеллер.
— Пожизненно или до виселицы, там видно будет… Распорядятся, — прогудел дьяк и так зевнул, что всем враз захотелось спать.
Стеллер не мог до утра глаз сомкнуть, все ворочался. Он думал: «В школу с таким трудом детишек затащил, уже и налаживаться началось все, а тут вновь распри. Что восстали — плохо. Только в острог заложников везти зачем? Ну накажи со строгостью. А так ведь помрут в казенке. В юртах детей полно… Тоже помрут… Мужчин не будет, женщин не будет, захиреют острожки… Надо выпустить».
Он не сомневался, что прав. Камчадалов нужно освободить, иначе вновь не миновать бунта. А они, эти бунты, вырастают как ком снежный, и если вовремя не остановить его, то разнесет все вокруг.
Едва забрезжило, Стеллер топтался у казенки и бранился с караульным.
— Нету приказа отпирать, — пятился тот, держась за саблю. — Нету, хоть убейте.
— Некогда приказы писать, есть устное распоряжение командира, — хитрил Стеллер.
— Проверить бы, — усомнился казак, но Стеллер напирал, и караульный, не устояв, загремел замками.
— Посвети, ничего не видно. — Стеллер шагнул в казенку.
Иноземцы лежали на свалявшемся сене. Их было немного.
— Наиболее опаснейшие, — боязливо шепнул казак.
Стеллер подносил к лицам заточенных огонь. Он не увидел страха. На него смотрели с безразличием.
«Смирились? — подумал он. — Или только маска?»
— Отпусти их, — обернулся Стеллер к караульному.
— Что? — переспросил тот и положил руку на эфес сабли.
— Не слышал!
— Слушаюсь, — засуетился казак и, подскочив к камчадалам, закричал: «Итить на выход, мать вашу! Жив-а-а!»
Рапорт на своевольно-дерзостный поступок ученого был секретно отослан в тот же день в Петропавловскую гавань господину капитан-командору Берингу.
Мартын Шпанберг, скривив сочные губы, попивая у дьяка жимолостную настойку, в присутствии десятника и прочих произнес роковые слова:
— Не за свое дело взялся, господин адъюнкт натуральной истории.
6— Как смел, мерзавец! — взбешенно кричал Беринг, получив известие из Большерецкого острога. — Судить! Немедленно! Алексей Ильич, — продолжал он, обращаясь к Чирикову, — видите, к чему приводят… эти… вольности… Бунт! Пускай его просвещенная задница на первый раз попробует батогов! Он мне надоел!
— Но некем его заменить… — Чириков старался загасить вспышку гнева капитан-командора. Он страшился за Стеллера: будучи мало знаком с крючкотворством, тот наверняка забудет или просто не придаст своему поступку особого значения, а бумага выплывет именно тогда, когда он и не будет подозревать о ее существовании… Сейчас важно принудить Беринга хотя бы на время забыть о случившемся… Впереди труднейшее плавание…
Однако Беринг и сам прекрасно понимал, что без знаний Стеллера плавание лишится того научного значения, которое придавал ему Сенат… Но своевольство… Отмена приказа… Чудовищно! Как воспримут офицеры желание Беринга не обострять именно сейчас отношения с ученым? Наверняка в Петербург покрадется донос… Чей — не важно… Конечно же не Чирикова и не Вакселя… В экспедиции есть соглядатаи… А он боялся остаться на тощей пенсии…
Он вопросительно посмотрел на Чирикова. Тот сразу же понял: Беринг колеблется, ему нужна поддержка.
— После вояжу, — сказал Чириков твердо.
— Пусть так, — нехотя, но облегченно согласился Беринг. — Но до консилиума видеть его не желаю.
7Беринг, коренастый и присадистый, с тугой короткой шеей, грузновато прохаживался по своему кабинету, заложив руки за спину. Кабинет был небольшой, но уютный: ближе к окну находился крепко сколоченный из березовых досок стол (на нем чернильница с начищенным медным колпачком, очиненные перья, стопка бумаги); кровать, застланная серым одеялом, в углу, у полки; кресло, поскрипывающее, старенькое; стулья, прочно деланные руками корабельных мастеровых. Беринг ждал офицеров экспедиции, чтобы учинить консилиум, на котором окончательно решить, каким курсом отправятся к Америке пакетботы «Св. Петр» и «Св. Павел».
И вот стулья заняли помощник Беринга капитан Алексей Чириков, лейтенанты Иван Чихачев, Свен Вексель, Михаил Плаутинов, Андрис Эзельберг, астрономии профессор Делиль де ля Кройер, флота мастер Софрон Хитрово, флагманский мастер Авраам Дементьев, штурман Иван Елагин.
Установилась тишина: Беринг не любил начинать разговор при шушуканьи, шуршании, поерзывании, зато давал на совете выговориться. Бывало, что мнения противоречили ему, были неприятно дерзостными, однако он находил в себе силы не кричать, подавляя всех своим положением (за мягкость в обращении матросы звали между собой «наш Иван Иваныч», хотя некоторые офицеры, особенно Мартын Шпанберг, и недолюбливали его за эту мягкость).