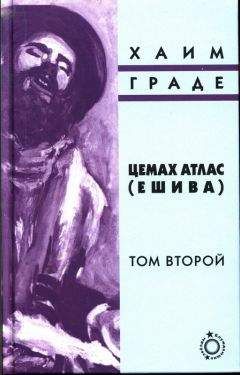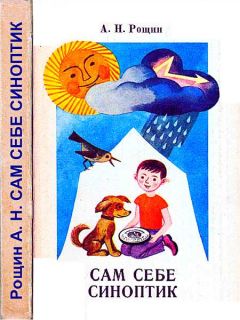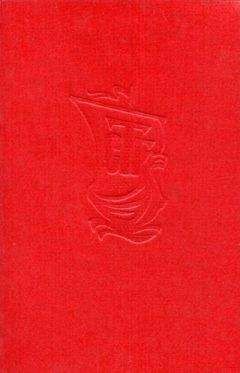Хаим Граде - Безмужняя
— Утопить вас в плевках, вот чего вы достойны! — плюнул один, и остальные стали плевать, крича, что только побитая собака может так лизать руку бьющего, как младший шамес пресмыкался перед старостой, пинавшим его ногами.
Бима, арон-кодеш, светильники — все закачалось перед глазами Калмана. Он выбежал во двор и застыл, уверенный в том, что раскачавшаяся синагога вот-вот рухнет, — и не мог сдвинуться с места.
На малярской бирже собрались и толковали меж собой маляры и торговцы с дровяного рынка, что напротив Завальной улицы. Приятели Мойшки-Цирюльника, которые клялись ему в верности до гроба, в душе не любили его за то, что он помыкал ими, за его постоянное хвастовство и наглое высокомерие. Но когда Мойшка был в силе, перед ним гнулись и подхалимничали. Теперь же он сразу пал в их глазах, все от него отрекались, отрицали даже, что Мориц угощал их водкой. Все с удовольствием пересказывали друг другу, как сбежались соседи на его дикие крики — словно свинью режут! — как нашли его лежащим в луже крови и как отвезли его в еврейскую больницу зашивать рассеченную голову.
— Ему еще повезло! — смеялся громче всех маляр Айзикл Бараш. — Если бы его не забрали в больницу, его бы растерзали, как разорвали на куски платок, на котором повесилась агуна, ведь веревка повешенного приносит счастье. В больнице его охраняют врачи в белых халатах. Никто лучше меня не знает, что он натворил.
— Что он еще натворил? — окружают Айзикла торговцы, парни в больших, подшитых мехом валенках и в шапках с кожаными твердыми козырьками.
Долговязый Айзикл Бараш в коротком пиджачке и узких штанах, рассказы которого о военных подвигах никто и слушать больше не хочет, теперь может поговорить о том, как Мориц пристал к нему — с ножом к горлу! — чтобы он, Айзикл, уговорил Калмана бросить жену, и как Калман потом приходил к нему проситься в квартиранты, а он не мог принять его из-за своей жены, этой ведьмы.
— Конское дерьмо! Ты еще хвастаешься, что был Морицу закадычным другом! — бьет его в челюсть железный кулак, и в ушах Айзикла раздается звон колоколов всех Виленских церквей.
— Смажь ему пятерней по роже, перепачкай его красной краской. Он и Мориц виноваты, что агуна повесилась.
— Чем я виноват? — хватается Айзикл за вспухающую челюсть. — Один я, что ли, пил с Морицем? Все маляры с ним пили. Они затащили Калмана в шинок и смеялись над тем, что он живет с агуной.
— Голодранец! Мы водились с Морицем? Мы затащили Калмана в шинок? — бьют себя кулаками в грудь маляры, потрясенные наветом Айзикла. — Лихие годы на твою голову! Думаешь, мы не знаем, что, когда Калман-баран пришел к тебе проситься в квартиранты, ты помчался к Морицу, чтобы он заплатил тебе за то, что ты уговорил барана уйти от агуны? Но Мориц дал тебе мякину от камня. Он сам рассказывал. Ты виноват, что агуна повесилась. Ты — и раввин из двора Шлоймы Киссина.
— Раввин из двора Шлоймы Киссина виноват! — завыли парни.
— Оттянуть ему бровь до пяток!
— Кишки выпустить, метрами мерить и собакам кидать!
— Он убил нашу сестру, дочь простого народа!
— Идем на синагогальный двор, там веселей. К черту заработки. Идем на синагогальный двор!
На синагогальном дворе не искали повода для скандала, как на малярской бирже; там воистину бушевал пламенный гнев. Рассказывали, как агуна разорвала платок, связала из лоскутов веревку и повесилась в трех шагах от дома сестры. Соседи пошли в рощу собирать хворост на растопку, нашли ее и сразу же опознали. Одинокая смерть агуны потрясла народ, и злоба обрела пылающие глаза, орущие рты и сжатые кулаки. Вспомнили о том, как в день Симхас-Тойре хотели убить старшего шамеса за пощечину, которую он дал младшему шамесу, но покорились, как овцы, городским старшинам и не тронули его.
— Где он, этот каторжник? Мы ему за все заплатим!
Но реб Йоше и на этот раз был спасен. Он вовремя почуял опасность и скрылся. Это вызвало еще большее возмущение, и народ накинулся на младшего шамеса Залманку, который стоял у порога городской синагоги, собирая миньян.
— Вот он, Йошин пособник! Йоше ударил его, а он расклеивал листочки, что агуне нельзя было выходить замуж.
— А вы что, хотели, чтобы реб Йоше больше не брал меня на свадьбы, а жена моя и дети помирали бы с голоду? — расплакался Залманка, и маленькие ручки и ножки его задрожали. Народ отвернулся от него:
— Гнида, тьфу на него!
В общинных дворах злоба, досада, раздражение были еще горше. Страх перед долгой зимой со снежными заносами, морозами и ветрами, мысли о том, что нет дров, угля, света в каморках и лампочек на кривых скользких лестницах, проклятия жен и плач детей, никчемная жизнь в подвалах с заиндевелыми стенами и обледенелыми порогами, нытье в суставах и копоть на лицах — все это рванулось из горла, сквозь зубы и слилось в диком гомоне:
— Раввин из двора Шлоймы Киссина виноват! Все раввины виноваты! Если правление кагала и дальше будет платить им жалованье, мы кашу из них сделаем. Ни гроша больше этим святошам, лицемерам, богокрадам.
— Конечно, раввины виноваты, а кто ж еще? — решили лавочники с Шевельской и Рудницкой улиц, измотанные налогами, замученные оптовиками, требующими уплаты долгов. — Это раввины наслали на нас ревнителей субботы проклинать нас за то, что мы не закрываем лавки за час-два до того, как приходит время зажигать свечи.
— Виноват сумасшедший раввин из двора Шлоймы Киссина! — подхватили у мясных лавок торговки в широких фартуках с большими карманами, сидевшие без копейки выручки. — Он запретил привозить кошерное мясо из Ошмян. Он виноват, что агуна повесилась.
— А может, ребе не виноват? — пытается найти оправдание раздельщик туш в кожаной куртке. — Мориц, наверное, обещал агуне жениться, а потом насмеялся над ней. Она размозжила ему голову, а сама повесилась из-за того, что он не захотел лечь с ней в постель.
— Чтобы ты сам лег и не встал! — пожелали раздельщику старшие мясники. — Ты забыл, как Мориц подбивал всех против агуны и раввина, который разрешил ей выйти замуж? Все знают, что Цирюльник таскался за нею два десятка лет и она не могла от него избавиться. Вот она и решила: себе конец и ему конец.
— А он еще хвастался, что ни одна женщина не отказала ему! — удивляется невозмутимый раздельщик туш. — В таком случае надо дождаться, пока Мориц выздоровеет, а потом прибить его гвоздями к доске для обмывания покойников.
Мясники решили, что если Мойшка-Цирюльник не околеет в больнице, с ним еще посчитаются и разделаются. Пока же нельзя спускать этому раввину из двора Шлоймы Киссина, который кипит и горит, проклинает весь мир и всех губит.
— Мы из него фарш сделаем.
Кто-то сказал, что тело агуны будут вскрывать. Полиция хочет узнать, самоубийство это или злодейство и насильственная смерть. От этой новости сердца лавочников с Шевельской улицы рванулись в груди, как в бурю рвутся двери с петель, а у мясных лавок уже рассказывали, что агуну хотят отдать студентам, чтобы они на ней учились резать, ни про кого не будь сказано! Мясничихи заорали на своих мужей:
— Волы, чего молчите? Идите, отравите им жизнь, нашим старшинам, городским заправилам. Выбейте им окна вместе с зубами. Вскрывать тело нашей сестры?!
— Вскрывать?! — подхватили мясники крики своих жен. — Пусть вскрывают богачей, пусть отдадут студентам раввина из двора Шлоймы Киссина.
Мясники ринулись поднимать город. Уличные торговки с тлеющим в горшках углем доверчиво глядели вслед мясникам, надеясь на их широкие плечи: есть еще кому вступиться за бедных и обездоленных. Почувствовав себя защитниками, мясники шагали плечом к плечу, серьезно и угрюмо, не отвечая на подмигивания знакомых. Один только раздельщик туш, нагнувшийся вроде бы подтянуть сапог, с шельмовской усмешкой поиграл длинным блестящим ножом. Затем он сунул нож обратно за голенище и снова встал в строй, а холодное лицо его словно говорило: при беседе с отцами города эту «птичку» пускать в дело нужды не будет, но показать, что она имеется, не повредит.
Старо-Новая молельня богачей на синагогальном дворе в испуге жалась к соседним молельням. Ее окна, расписанные сценами из Пятикнижия, в тот вечер тускло мерцали, не пропуская света вечной свечи, пламя которой трепетало в пустом помещении. Прихожане остались дома, не по душе им было появляться на улице. Но два старичка с молочно-белыми бородами, прихожане Старой молельни, ходившие с делегацией к реб Лейви Гурвицу, все же вышли из дому. Теперь они направились к моэлу Лапидусу из семьи Рокеах, чтобы задать ему несколько вопросов: возможно ли, что из-за личной обиды на полоцкого даяна он желал отлучения самого даяна и самоубийства еврейской дочери? Возможно ли, что он был готов навлечь грозу на ревнителей субботы, чтобы те уже не могли на исходе пятницы гнать женщин с рынка и отправлять их совершать благословение над субботними свечами?.. Возможно ли?.. Но старикам не пришлось спрашивать, потому что к ним вышел сын моэла и сказал, что отец уехал к сестре под Варшаву. Молодой человек посоветовал старичкам идти домой как можно скорее, чтобы не подумали, что они подосланы этими разбойниками, которые сводят свои счеты под предлогом защиты агуны.