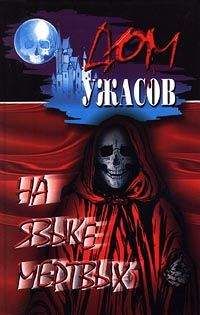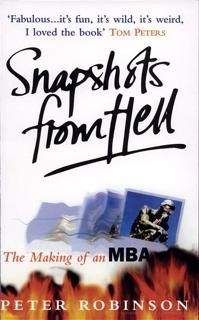Елена Колина - Питерская принцесса
– Наверное, делегацию какую-то провожают...
– Если правительственная, то милиция была бы...
– Любинские так и не пришли... – прошептал Маше Юрий Сергеевич.
Среди такого многолюдья, обшей любви, всего лишь нет школьного друга...
– Боба мог бы и позвонить, – басом ответила Маша.
Маша и не надеялась вдруг обнаружить Антона в этой толпе. Не в его стиле вот так прийти, лирически постоять в сторонке, чтобы поймать прощальный Машин взгляд. А вот Боба... она была уверена, что Боба придет ее проводить и объяснит наконец, ЧТО ОНА ЕМУ СДЕЛАЛА! Ничего она не понимает в этой жизни, ну ничегошеньки!Найджел огромным черным комом метался по клетке, возмущаясь лишением свободы и подлым намерением людей в форме отправить его вместе с чемоданами в багаже. Успокоился он, только когда убедился, что справедливость восторжествовала, – его выпустили из клетки и погрузили в машину уже как полноправного члена стаи. Вслед за Найджелом в машину уселась Маша. Терьера не пропустила таможня. То ли не удовлетворяла правилам клетка, то ли неправильно были оформлены документы на самого гордеца Найджела. У Юрия Сергеевича, Ани и Маши правильно, а у Найджела Раевского Первого нет.
С толпой провожающих Раевские вернулись домой. Еще неделю провожались, пока исправляли найджеловские документы.
Во второй раз уезжали обыденно. Все, и провожающие, и сами герои дня, устали от пафоса.
На улице ждали машины везти в аэропорт, а Юрий Сергеевич с Костей молча смотрели футбол. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев).
– Пора, опоздаем!
– Досмотрю, и поедем, – ответил Юрий Сергеевич.
Злилась Аня, удивлялась Маша – отец не отличался эксцентричностью, никогда не опаздывал, к тому же, по лекторской привычке, всегда приходил на пять минут раньше назначенного времени, да и футбол не слишком любил. Что это с ним – «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев)?Толпа была уже не такая плотная, как в прошлый раз. Что вытягивать шею, их нет – Володи, Зины, мальчиков... и Алешки Васильева тоже нет – то есть Аллочки с Наташей.
– Дядя Федор, до свидания! – закричала Маша, пройдя паспортный контроль. – Я уже не местная, целую тебя из заграницы! До свидания! Приедешь?
– Куда ж я без тебя! Принцесса! – махал руками Дядя Федор.
Маша уже не услышала, догадалась.– Вино, минеральная вода, сок? – спросила Машу стюардесса.
– Минеральную воду, пожалуйста. – Маша зашептала на ухо отцу: – Весенним постом Щербацкие уехали за границу, лечить Кити от несчастной любви.
Пошевелив проводок, Юрий Сергеевич наклонился к Маше.
– Кити заболела, отказав Левину... потому что думала, будто любит Вронского. Так?
– Кити – дрянь! – выплюнула Маша так яростно, словно Кити была ее личным врагом. – Ей было все равно, кто – Вронский или Левин. И заболела она от ужаса, что упустила обоих!
– Ты думаешь? – удивился Юрий Сергеевич. – Это новый, необычный вклад в литературоведение...Последний раз Наташа держала в руках двухкопеечную зеленую тетрадь в смешную косую линейку в первом классе. Ей, кстати, раньше всех в классе разрешили писать во «взрослой» тетради в линейку. Откуда здесь, в Бобиных вещах, между двумя аккуратно сложенными рубашками, ее старая тетрадка? Наташа как раз вчера просматривала Бобины вещи. Тетрадки не было.
«...маленькая моя, девочка моя. Ты думала, я забыл тебя, не знал про твой отъезд. А я думал и думаю об этом непрерывно. Самое трудное было не позвонить, не дать себе увидеть тебя, не позволить себе снова вернуться к тому жалкому безвольному человеку, которого ты не смогла полюбить...
...Уехала. Зачем мне жить без тебя, зачем мне наша любимая «Петроградская», зачем Ленинград? Мне осталась лишь «Скорбящая мадонна» в Эрмитаже, потому что наклоном головы она напоминает тебя...
Маша не умеет сдерживаться, бывает жестокой... Я знаю о том, как она жила после того, как мы расстались, и до самого отъезда. Моя маленькая принцесса превратилась в... нет, не могу даже в уме назвать... Я люблю в ней даже то, что никогда не любят...»
Наташа листала мятые странички. Скажите, пожалуйста, какой высокий стиль!«Она многому научила меня за то короткое время, что мы были вместе! Я понял: самое большое счастье – это быть в тени любимой. Я так восхищался ею, когда она своим детским баском читала стихи... Ее любимое лицо такое нежное, беззащитное, она иногда такая детская, иногда мудрая. Все остальные женщины в мире – ничто перед ней.
Милая моя, милая, милая... Я буду просить Бога, чтобы мне никогда не стало легче. Все свои силы положу на то, чтобы навсегда удержать в себе свою боль и страдание, а значит, и тебя...»
Мелкими движениями, словно вдевала и вытаскивала обратно нитку из тонкого игольного ушка, Наташа рвала Бобин дневник. Смела обрывки в совок, тщательно оглядела пол, позвонила матери: – У меня все в порядке. Нет, я не приеду. Нет, я не скучаю одна...
Устал, и ноги, кажется, мокрые, правый ботинок точно хлюпает. Осточертело шататься по городу. Январь... А какой в Питере в этом году январь? Уж лучше мороз, чем вот так. Воздух как серая вата. Сверху грязь капает, внизу грязь хлюпает, вокруг кружит и вьется. А если это твой пятый курс и пятый январь? Веселье растеклось грязными лужами. Устал. Антон шел от метро «Горьковская» по проспекту Максима Горького, отсюда они с Машей сворачивали на Зверинскую, к Нине. Кстати... Нинка-свининка! Сто лет ее не видел!.. А что, это мысль!
– Маша особенная. Я не понимаю, как можно было ее бросить... – вздохнула Нина.
Только бабы бесконечно мусолят свои чувства. Нинина комната навела на дурацкие воспоминания, вот и разговорился, как последний идиот!
– Она была особенная, да... Только у них все по-другому. Вот, например, когда ее бабушка умерла, откуда я мог знать, что мне надо прийти? Я, честное слово, думал, неприлично, надо подождать...
– Машка в кино снималась, рисует, стихи пишет! Она ужасно талантливая!
– Да, она была талантливая.
– Машка такая красивая, правда?
– Да, она была... ничего... красивая... Только обижалась все время и вообще...
Антон не мог объяснить, что «вообще», но это было совершенно определенное «вообще». Маша про него толком ничего и не знала. Не хотела знать. Например, откуда он, Антон, такой завлекательно чернявый, посреди питерских светло-серых юношей? Разве он мог рассказать? Вот она, его семья, в поселке Волосово проживает, улица Ленина, дом пять, от большой лужи направо. В трехкомнатной квартире. В одной комнате, проходной, спит отец армянин, бывший красавец, бывший художник. Мать с ним двадцать лет в разводе и двадцать лет не разговаривает. Антон спит здесь, с отцом. В другой комнате сестра с мужем и сыном. В третьей мама с внучкой. Мать с отцом ненавидят друг друга, что мать ни скажет, он ей: «А ты молчи, тебя не спрашивают».
– Машка тебя любит, и ты ее любишь! Ей напиши обязательно, она мне адрес пришлет, и я тебе сразу дам! – уговаривала Нина, розовая, кругленькая, домашняя.
– Напишу. Что я хороший. Калом бур, зато телом бел.
Нина засмеялась.
– Хочешь я тебе спою из «Жестокого романса»?
– А напоследок я схожу-у-у, – дурашливо затянул Антон.
– Врачебный юмор, – войдя в комнату, заметила Аркадия Васильевна. – Умираю, хочу есть. Обедать будем?...И мама эта... такая уютная, своя. Не то что те... он вдруг подумал странно чужой пошлой фразой «хороша Маша, да не наша».
Эпилог
Приятно улыбаясь, Аллочка быстренько махнула Антону рукой – пересядь, подвинься... И, приговаривая: «Дорогую гостью – на почетное место», пересадила Машу к Бобе.
Скосив глаза, Маша принялась разглядывать Бобу. На нем нарисованы деньги, подумала она. Так же явственно, как президент Франклин на стодолларовой банкноте. И даже немыслимое сочетание – пиджак серый в полосочку и брюки в мелкую зеленоватую клеточку – невозмутимо сообщало: деньги. Именно так, без истерики, со спокойным достоинством – деньги.
Вежливое молчание за столом прорывалось короткими нерешительными смешками, междометиями, незначащими фразочками. И, даже не пытаясь превратиться в общую беседу, тут же повисало вновь.
– Над столом сгустилось напряженное молчание, – интригующим голосом сказочника из детской радиопостановки произнесла Маша.
Она уже немного сомневалась в правильности собственного мелодраматического появления. Но неужели нельзя, ничего не выясняя, протянуть мизинчик – мирись, мирись и больше не дерись, и чтобы все опять ее любили!
Все, кроме Бобы, кротко улыбнулись. Он в детстве, бывало, вдруг надувался и молчал, вспомнила Маша и чуть не сказала вслух, как когда-то Бабушка: «Боба, нечем дышать, ты намолчал полную комнату злобы».
Какое-то Маша чувствовала вокруг себя шевеление – словно все, даже по-честному радостная Нина и незнакомая... как ее зовут... Рита, внутренне потягивались, пытаясь размять затекшие руки, разгладить сморщенные лица. Долгие проводы, короткие встречи, лишние слезы, смутные сожаления, былых возлюбленных на свете нет, в одну реку дважды... и тому подобная невнятица чувств витала в воздухе.