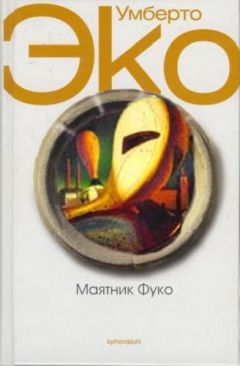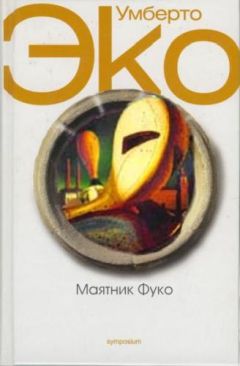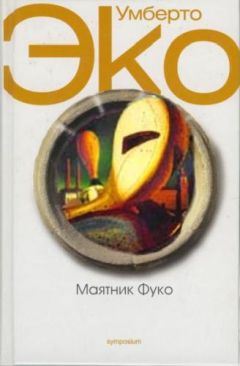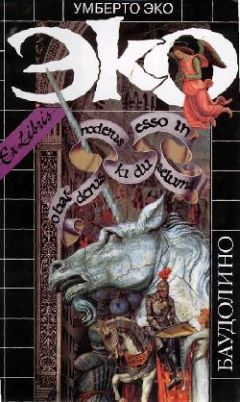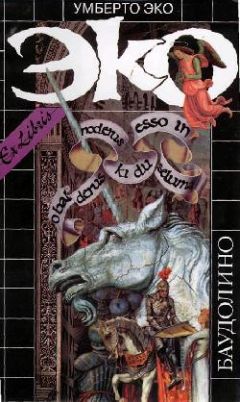Умберто Эко - Маятник Фуко
Думаю, что Бельбо влюбился в Лоренцу Пеллегрини в ту минуту, когда понял, что Лоренца способна ему предложить счастье, но не позволить его. И еще благодаря Лоренце в нем укоренилось понимание эротизма автоматического мира, машины как метафоры космического тела и механической игрушки как диалога с талисманом. Он уже тогда начинал одурманиваться Абулафией, и скорее всего, обдумывал знаменитый проект «Гермес». Вне всякого сомнения, он уже видел Маятник. Лоренца Пеллегрини, не знаю через какое там короткое замыкание, обещала ему такой Маятник.
Поначалу мне стоило больших усилий снова прижиться в «Пиладе». Шаг за шагом, и даже не каждый вечер, я в лесу посторонних мне лиц открывал те, знакомые, лица выживших, чуть запотевшие от моей опознавательной одышки: текстовик в рекламном агентстве, консультант по налоговым вопросам, торговец книгами в рассрочку — если раньше он пристраивал сочинения Че Гевары, ныне перешел на торговлю траволечением, буддизмом и астрологией. Я увидел: кто-то начинал шепелявить, в волосах появились частые серые пряди, но в руке зажат стаканчик виски, так и кажется, будто этому стакану лет десять, и из него выпивается только одна капелька в месяц, насасывая по глоточку в год.
— А ты чем занят, почему не показываешься у нас? — спросил один из них.
— А что значит нынче «у нас»?
Он посмотрел на меня, как будто я исчезал из страны на сто лет: — Отдел культуры горсовета. — Сколько смешного случилось без меня — обалдеть можно.
Я решил изобрести себе дело. Я не располагал ничем, кроме кучи отрывочных познаний, разнонаправленных, но которые мне удавалось увязать между собой как угодно, ценой нескольких часов в библиотеке. В мое время принято было иметь теорию, а я жил без теории, и я страдал. Теперь же было вполне достаточно располагать просто данными, и всем ужасно нравились сведения, по возможности менее актуальные. То же самое я увидел в университете, куда было сунулся, чтобы понять, найдется ли там для меня применение. В аудиториях было тихо, студенты скользили по коридорам, как тени, ксерокопировали друг у друга плохо составленные библиографии. Я мог бы составлять хорошие библиографии.
Однажды один дипломник, перепутав меня с доцентом (доценты с некоторых пор были в одном возрасте со студентами, вернее наоборот), спросил, что написал Лорд Чандос, которого изучали в спецкурсе по циклическим кризисам в мировом хозяйстве. Я просветил его, что лорд Чандос — не экономист, а персонаж Гофмансталя.
В тот же самый вечер я был в гостях у друзей и повстречал у них старого знакомца. Теперь он работал в издательстве. Он пошел работать к ним вслед за тем, как они прекратили печатать романы французских коллаборационистов и занялись албанской политической литературой. Вот, как видишь, пояснил он мне, политизированные издательства существуют, но теперь на дотациях государства. Лично они, впрочем, всегда рады одной-двум стоящим книгам по философии. Традиционного типа, уточнил он.
— Кстати, — сказал этот человек. — Ты как философ…
— За философа спасибо, но…
— Ладно ладно, я сейчас редактирую текст о кризисе марксизма и нашел там цитату из какого-то Ансельма Кентерберийского. Кто он? Нигде нету, даже в энциклопедическом словаре. — Я отвечал ему, что речь идет об Ансельме из Аосты, но у англичан он называется по-другому, потому что у них все не как у людей.
Все волшебно прояснилось в моей голове. Для меня отыскалась профессия. Я решил, что открою культурно-информационное агентство. Буду сыщиком от науки.
Вместо того чтобы совать нос в кабаки, бары и в бордели, я буду шнырять по книжным магазинам, библиотекам, по коридорам научных институтов. А потом возвращаться в свой офис и, задрав ноги на стол, потягивать виски из бумажного стакана, прикупив и то и другое в лавчонке на углу. Тут звонит некто и говорит: «Я перевожу одну книгу и напоролся на какого-то — или каких-то — Мотокаллемин. Прошу вас, займитесь этим».
Ты не знаешь, с чего начать, но неважно, просишь на расследование двое суток. Прежде всего — дряхлый университетский каталог. Потом ты предлагаешь сигарету парню из справочного отдела — намечается что-то вроде следа. Вечером ты приглашаешь в бар аспиранта по исламу. О йес! Берешь ему кружку пива, другую, потихоньку теряется бдительность, и он отдает информацию, необходимую до зарезу, просто за так, бесплатно! После чего набираешь номер клиента: «Значит так, мотокаллемины — в исламе богословы радикальных убеждений во времена, когда жил Авиценна, утверждавшие, что мир являет собою, как бы это выразиться, что-то вроде туманности случайностей, а загустевает он в конкретных формах только ради мгновенного и временного осуществления божественной воли. Стоит Господу отвлечься на полчаса, и весь мир развалится. Полная анархия атомов без всякой взаимосвязи. Этого хватит? Я проработал три дня, посчитайте сами».
Мне подфартило отыскать две комнаты с крошечной кухней в старом доме на периферии Милана, где до недавних пор была фабрика. В административном крыле все перестроили под квартиры и вывели входные двери в общий длинный коридор. Моя квартира находилась между агентством по продаже недвижимости и лабораторией набивальщика чучел (А. Салон — таксидермист). Все до чертиков походило на американский небоскреб начала тридцатых, еще бы застеклить верх двери — и я бы был вылитый Марло. Во второй комнате я поставил диван-кровать, а в первой устроил контору. Построил два ряда полок и загрузил их атласами, энциклопедиями, каталогами, которые пополнял постепенно. В самом начале мне приходилось идти на компромиссы с совестью. Признаюсь, что не отвергал и написания дипломов для студентов. Это было нетрудно, поскольку я передирал с дипломов десятилетней давности. Вдобавок друзья издатели периодически подкидывали внутренние рецензии и книжки на иностранных языках для обзоров, разумеется — самые нудные и по самым низким расценкам.
Но я накапливал знания и умения и ничего не выбрасывал. Составлял конспекты на все. Я не вел тогда банк данных в компьютере (первые из них поступали в продажу как раз в эти годы, и Бельбо был пионером), у меня было ремесленное оборудование, но я создал нечто вроде банка памяти, состоящего из хрупких картонных карточек с перекрестными отсылками. Кант… туманность… Лаплас, Кант, Кенигсберг, семь мостов Кенигсберга… теоремы топологии… Больше всего это походило на ту игру, в которой надо добраться от сосиски до Платона за пять переходов, она называется «игра в ассоциации». Посмотрим. Сосиска — свинтус — щетина — кисть — маньеризм — идея — Платон. Это легко. Любая жвачная рукопись давала мне возможность заполнить двадцать карточек для будущей игры в пирамидку. Критерий был очень жесткий, я думаю, что этот же критерий применяется обычно спецслужбами: нет лучших или худших сведений, сведения нужны любые, а затем начинается поиск связей между ними. Связи существуют всегда, надо только захотеть их найти.
Проработав примерно два года, я был вполне доволен собою. Во-первых, мне это нравилось. И вдобавой я повстречал Лию.
35
Чтоб всякий ведал, как я названа, Я — Лия, и прекрасными руками Плетя венок, я здесь брожу одна.[77]
Чистилище XXVII, 100–102Лия. Сейчас я мучаюсь мыслью, что ее не увижу, но я мог бы ее вообще не встретить, и это бы было хуже. Если бы она была со мной, держала бы мою руку, в то время как я восстанавливаю этап за этапом своей погибели. Она ведь все предугадала. Но я не могу ее ввязывать в эту историю, ни ее, ни ребенка. Надеюсь, что они задержатся с переездом и вернутся, когда все уже будет кончено, как бы оно ни кончилось.
Это было 16 июля восемьдесят первого года. Милан уже почти опустел и в справочном зале библиотеки не было никого.
— Прошу прощения, но том 109 собиралась взять я.
— Почему же он тогда стоял тут?
— Потому что я отошла на минутку взять выписку.
— Это не причина.
Она уже улепетывала к столу со своей добычей. Я уселся напротив, надеясь рассмотреть ее лицо.
— И удается читать что-нибудь, кроме Брайля? — спросил я. Она подняла голову, но все равно было неясно, лицо это или затылок.
— Что? — переспросила она. — А-а. Я все прекрасно вижу. — Но при этих словах она отодвинула челку, и глаза у нее были зеленые.
— Зеленые глаза, — сказал я.
— Да, а что, это плохо?
— Почему же плохо. Наоборот…
Так это начиналось.
— Ешь, а то худой, как скелет, — сказала она за ужином. Пробило полночь, мы все еще находились в греческом ресторане около «Пилада», и свеча почти совершенно оплыла на горлышко бутылки, и мы рассказывали все. У нас была одинаковая профессия. Она редактировала статьи для энциклопедии.
Я торопился выговориться. В половине первого она отодвинула челку, чтобы лучше меня рассмотреть, и тут я выставил палец, как пистолет, изображая прямое попадание, и пропищал: