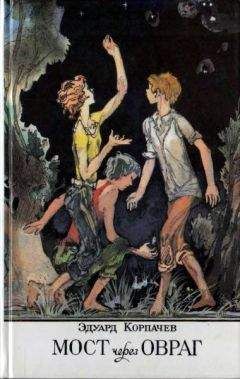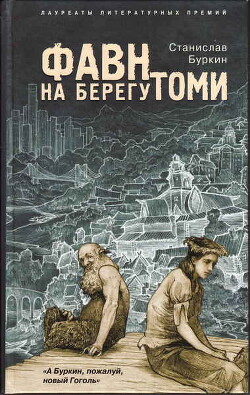До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Младшенькая вела себя как-то отрешенно и, словно войдя во вкус со вчерашнего вечера, только и делала, что смотрела мультики. А вот старшая металась по дому, пила какие-то таблетки, кому-то звонила и собирала в бархатный рюкзачок вещи, косметику в основном. Когда я понял, что она уезжает, я так разволновался, что готов был упасть ей в ноги, только чтобы она меня не бросала.
— Я поеду с тобой.
— Еще чего! — сказала она недружелюбно.
Я вспыхнул:
— Нет, поеду!
— Нет, не поедешь! — уперла она кулаки в талию и топнула.
— А я тебе говорю, что поеду, или обо всем расскажу Мигуэле.
— Это твое последнее слово? — спросила она, прищурившись, после паузы.
— Да.
— Значит, самое последнее! — прорычала она и бросилась как пантера, избила меня, хлопнула дверью и мягко зачастила в кроссовках вниз по лестнице. Я побросал кое-какие вещицы в школьный Матильдин рюкзак и побежал догонять ее.
5
Когда мы, не останавливаясь, пролетели границу на автобусе «Евролайнс» из Жироны, уже было совсем темно, и мне было обидно, что я не могу лицезреть пейзажей благословенной Франции. Я только видел яркие фонари шоссе и чернильные силуэты гор.
Мерседес всю дорогу спала у меня на груди, подобрав ноги и мастерски скрючившись на наших сиденьях. Потом в три часа ночи автобус остановился возле какой-то специально оборудованной для постоя станции, и водитель-испанец в приказном порядке сказал всем выйти из автобуса.
Я начал будить Мерседес, но она меня отругала и сказала, что ни за что не встанет с места. Но пришел водитель и очень грубо начал ее выгонять из автобуса. Тогда она его тоже обругала на чем свет стоит, и мы выбрались в ночную зябкую Францию.
Она пошла в круглосуточный магазин, чтобы купить воды и план столицы, а я отправился в туалет. Первым, что я прочитал во Франции, была романтическая надпись на писсуаре, сделанная сиреневым маркером по-русски: «Миша по дороге в Париж».
Через полчаса нам разрешили вернуться в автобус, и мы уснули, а когда проснулись, было уже светло, и мы стояли на лионском автовокзале, похожем на большой цокольный гараж.
В Париже мы вышли на таком же мрачном вокзале, как в Лионе, с бетонными колоннами и низкими потолками, и пошли искать выход на поверхность. На привокзальной площади Мерседес взяла такси, и мы помчались скоростным автобаном с частыми тоннелями в центр города.
В этот день я впервые увидел своими глазами многое из того, что видел до этого только по телевизору. Мы гуляли по большому городу и чувствовали себя беспризорниками. Я вдруг почувствовал себя совсем маленьким в совершенно чужом мне мире, где за беспечными лицами счастливых европейцев скрывалось холодное отчуждение к бездомному несовершеннолетнему чужеземцу. У меня от этого чувства даже копчик заунывно стыл, потому что я думал, что мы будем так бродить по Парижу, пока одежды наши не превратятся в лохмотья и мы не начнем лазить по помойкам и просить подаяния. «Ну и что, — подбадривал себя я, — ведь я буду с ней, а для меня лучше бродяжничать в этой дыре с любимой, чем возвратиться к родителям и больше ее никогда не увидеть». Мерседес то и дело звонила в какие-то справочные конторы и пыталась разузнать адрес отца. На Марсовом поле она сказала мне, что есть поверье: если влюбленные поцелуются прямо под Эйфелевой башней, то останутся неразлучными на всю жизнь. Я предложил ей пойти и поцеловаться, но она только рассмеялась и сказала, что я буду об этом жалеть.
— Не буду! — решительно сказал я.
— Но ведь когда ты вырастешь, я стану уже старухой.
— А я и старухой буду любить тебя больше всех молодых!
— Как же ты ошибаешься, — улыбалась она.
Мы вышли на Конкорд, перешли торжественную площадь с египетским обелиском между двумя фонтанами и спустились по ступенькам в аллею Луврского сада. Там мы сошли на газон и прилегли под деревом отдохнуть. Погода была теплая, облачная, и мне было очень приятно просто лежать и смотреть в плывущее клочковатое небо. Мерседес вздремнула. Кофточка у нее была повязана рукавами вокруг живота, она лежала, одну ногу в белой кроссовке вытянув прямо, а другую согнув и поставив ступней на траву. Точно так же одна рука у нее лежала на траве, а другая безжизненно на лице, прикрывая от света глаза. Губы ее были слегка разомкнуты, она чуть слышно дышала через них, и грудь у нее высоко поднималась при каждом вздохе. Я сорвал молодую травинку и провел острым кончиком по бархатистой щеке. Она пошевелилась и отмахнулась как от мухи. Я пробежал травинкой по ее подбородку, и она еще раз пошевелилась, что-то пробормотав сквозь сон на своем языке.
Я решил, что она крепко спит, и склонился над ее губами, чтобы почувствовать теплоту ее дыхания на своей щеке. Возможно, на нас смотрели люди, но мне было все равно. Я приблизился близко-близко и вдохнул тепло из ее жаркого рта. Потом она неожиданно подняла руку, повалила меня на себя, прижала, и мы слились в долгом и первом настоящем для меня поцелуе, от которого кружилась голова, куда-то уплывала земля, и все вертелось вокруг нас, словно на далеком катке в России. Когда мы перестали целоваться, я сказал, задыхаясь:
— Детка, это был лучший поцелуй в моей жизни.
Она охнула, схватилась за живот, поджала ноги и свалилась на бок, делая вид, что умирает со смеху. Когда я присмотрелся, я понял, что она действительно умирает со смеху. Я смотрел на нее, и мне тоже становилось смешно. Мы в обнимку неуклюже катались по всему газону, пробовали целоваться, но как только наши губы смыкались, тут же она прямо в мой рот с дурацким звуком взрывалась приступом хохота. И снова она перекатывалась через меня, я перекатывался через нее, и Париж перекатывался через нас…
Мы дошли до дворца со стеклянной пирамидой во дворе, Мерседес купила билеты, и мы съехали на эскалаторе в яркий современный вестибюль. Потом мы не спеша пошли туда, куда шло больше всего народу, прошли по лестнице мимо безголовой крылатой Ники и пошли через залы с римскими и греческими статуями в человеческий рост.
В Лувре мы провели целый день, видели Джоконду, которая мне показалась очень маленькой, Венеру Милосскую, но больше всего мне понравилось бродить по залам, где никого не было, и выискивать там что-нибудь на вид любопытное. К вечеру мы совсем проголодались и пошли в город искать итальянскую пиццерию или мексиканский ресторан. Так хотела Мерседес. Но мы не могли их найти и устроились в обычном ресторане, где смогли заказать пиццу и два бокала безалкогольного пива.
Деньги на мобильниках у нас закончились, и Мереседес пошла к бару попросить телефон. Ей указали на красную телефонную будку прямо в углу заведения и продали карту для звонков. Она ушла в будку и проторчала там минут сорок.
Наконец она появилась, вся сияя и чуть ли не подпрыгивая от радости.
— Что случилось? — спросил я.
— Я нашла его! — хлопнув в ладоши, объявила Мерседес, и мы пошли искать с помощью плана города улицу в пятнадцатом квартале, где обитал ее незабвенный папа.
Глава восьмая
Нога Энрике Хомбрэ
1
Мерседес немного боялась встречи с отцом. Ведь, по сути дела, она его и не знала. Мы пришли в ресторан «Баро Шеро» и спросили у барменши с именем Мишель на бэджике, как поговорить с владельцем.
— Кто-кто вам нужен? — настороженно перепросила девушка за стойкой, апатично, как корова, жуя резинку.
— Энрике Хомбрэ, — повторила Мерседес.
— А зачем вам Энрике?
Мерседес замялась.
— Ищем работу, — быстро нашелся я, и мы враз закивали.
У Мишель диковато скривился рот в улыбке, и она недоверчиво уточнила:
— Хотите работать внизу?
— Да! — сказали мы хором.
Девушка озадаченно помолчала, словно стараясь различить вкусовые тонкости своей жвачки.
— Ну что ж. Тогда идите за мной.
И она повела нас через дверь у бара винтовой лестницей в подвальное помещение, где было странное фиолетовое освещение, все в сладком дыму кальянов, кругом ковры, мужчины возлежали на арабских лежанках с барышнями в костюмах для танца живота. Короче, обстановка внизу была самая что ни на есть борделеватая. Мы прошли через несколько по-разному декорированных комнат из «Тысячи и одной ночи», то спускаясь, то поднимаясь на три-четыре ступеньки, и вошли в небольшой отдельный кабинет, где в полумраке в свете мерцающих электрических лампад развалился на низком диване полуживой тип в белом или кремовом костюме (цвет было не разобрать из-за адского освещения). Человек был худ, небрит и невероятно морщинист. Сидел он неподвижно, развалившись, так, как будто его пару недель назад закололи на этом диване и так и оставили. Смотрел он на нас или сквозь нас мрачным немигающим взглядом черных глянцевых глаз. Лет ему было около шестидесяти. Черные волосы с пепельной сединой, длинные, нечесаные и грязные, висели космами, и только свирепые глазки светились сквозь них, отражая мигающие бесовские лампадки. Испитое лицо обрамляли длинные противные клочковатые баки, носище, тонкий и крючковатый, с истончившимися в ненависти крутыми рисовыми ноздрями, вокруг сухого съехавшего влево рта серебрилась щетина. Лицо индейского шамана или восставшего мертвеца, смугло-красное, совсем сухое, с обветренными морщинами. На ушах у него как-то противоестественно смотрелись поблескивающие золотые сережки. Сидел он низко, так, что пиджачные плечи у него торчали очень высоко, коленки развалились в стороны и тоже торчали, штанины задрались и из-под них выглядывали костлявые голени, носки и лаковые туфли, стоявшие на полу таким образом, что подошвы смотрели одна на другую. Под ногами у него валялось несколько пустых бутылок.