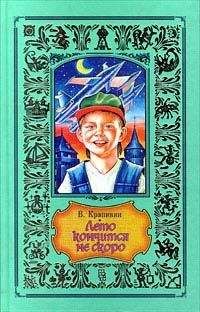Борис Минаев - Психолог, или ошибка доктора Левина
Было яркое солнце, и вдруг он просто повалил ее на спину, на бочку, она лежала тихо-тихо и удивленно смотрела на него своими глазами без ресниц – очень удивленно смотрела.
– Ты что делаешь? С ума сошел? Нас же увидят…
Он не отвечал, рассматривал ее всю. Она лежала, в общем, в смешной позе – ноги в открытых сандалиях на земле, потом колени, потом короткая детская юбка, нет, до юбки вдруг обнаружилось что-то новое – белое.
Короткий, но ясный переход от загорелой части – к незагорелой.
Он медленным, осторожным движением стал открывать это белое. По сантиметру. По миллиметру.
– Перестань! – сказала она и резко села. Лицо было красным, но не от жары. – Мне неудобно. И вообще… У меня некрасивые ноги, не делай больше так.
– Все у тебя красивое, – виновато сказал Лева. – Что ты говоришь такое… Прости, я больше не буду.
– Ну-ну, – сказала она вдруг весело, – посмотрим. А вот у тебя, кстати, тело красивое.
– Чего у меня красивое? – обалдел он. – Ты совсем, что ли? И вообще, откуда ты знаешь?
– Видела! – сказала она, встала и, дернув его за руку, повела обратно в сад.
Ну да, пару раз он играл в саду в волейбол, раздевшись до пояса и в шортах. Она, кстати, играла тоже. В тренировочных штанах. Очень азартно, не обращая на него, казалось, никакого внимания.
Он не знал, как себя вести после этого случая – тело, какое еще тело, причем тут его тело?
Свое тело он ужасно не любил никому показывать (на волейболе разделся только из-за дикой жары).
Но ощущение тайны, которую он открыл, не давало ему уже покоя, в том, что он увидел, вернее, в том, что сделал – было что-то крайне важное, большое, значительное. («Задрал юбку», фу, как противно, нет, он сделал что-то другое, он что-то увидел, чего видеть был не должен, а почему не должен?)
Эти белые ноги, вернее, уже бедра, полные, беззащитные, какие-то отдельные от нее, он даже их испугался, потому что вдруг понял – непонятно, что делать дальше, что потом, после них, а ведь есть же это потом? И будет ли оно, это потом?
* * *Однажды она приехала к нему домой – после их вечной, бесконечной прогулки по пустым воскресным улицам, после заката на улице Косыгина, когда ему вдруг делалось невыносимо грустно, он шел молча, и она вдруг тоже начинала молчать, его охватывал страх – а вдруг что-то произойдет, ну стычка какая-то, хулиганы, и она поймет, что он беззащитный мальчишка, совсем мелкий и слабый, беспомощный, и это все, это будет конец?
Да, в тот день родители уходили в гости или на концерт, просили прийти пораньше, не провожать ее, как обычно, в ее Химки, на край света, просили расстаться пораньше и посидеть с братом, а брату было четыре года.
– А давай ты ко мне поедешь? – вдруг сказал он. – А потом они придут, и я тебя провожу. Вместе с братом посидим. Увидишь хоть его.
– Давай, – неожиданно согласилась она. – Я маленьких люблю.
Мама посмотрела на них удивленно, но с Ниной была вежлива, ласкова, напоила чаем, что-то спросила дежурное, та была строга, застенчива, но букой не глядела – поправляла рукава белой блузки, пыталась помочь с посудой, спрашивала, когда кормить Мишку.
… И они остались вдвоем.
Верней, втроем.
Прошел час или два, их разговоры с огромными паузами, потому что он не умел просто так болтать, а она была взволнована и ему не помогала, она играла с Мишкой, а он сидел рядом и смотрел на нее, потом за окном сгустилась темнота, наступила ночь, десять, ей пора было уходить, Мишку он уложил, потом они зашли в его комнату и стали целоваться.
Какие же разные были у них поцелуи. Все они значили разное. Здравствуй, прощай – это понятно, прости, не сердись – это тоже понятно, нет, было еще множество оттенков – не уходи, останься, горечь, отчаяние даже, почти горе, надежда, доброта, забота, или холод – все было в этих губах когда-то. Ей стало жарко, и она сняла длинный шерстяной жакет. Осталась в белой блузке.
Они сели на кровать, а потом легли на нее (она аккуратно сняла туфли, он скинул тапочки).
Наконец наступил момент, когда он уже перестал понимать, что делает. Туда было нельзя, и сюда было нельзя, и так было нельзя, и об этом нельзя было даже и думать – но она впервые лежала рядом с ним, и что-то ведь он должен был попробовать?
Он осторожно навалился грудью на ее грудь, поцеловал еще раз, потом в шею и, пряча глаза, оказался разом сверху, сжал ее голову руками и посмотрел прямо:
– Можно так?
– Можно… – сказала она. – Только ты меня очень помнешь. – (Разумеется, она имела в виду блузку.)
Она была в брюках, и он мучительно думал об этом – надо попросить или что-то сделать самому?
Но делать ничего не пришлось…
– Ну вот, – сказала она напряженным, сухим от волнения голосом, – теперь ты должен сказать…
И она замолчала.
– Что я должен сказать? – не понял Лева.
Она молчала, долго, потом мучительно покраснела.
– Попробуй сам догадаться… Ну что ты должен сейчас сказать?
Он тоже замолчал и тоже мучительно покраснел. Ему стало жарко. Так жарко…
Он не выдержал, скатился вниз, ударившись там обо что-то, об край кровати, и пошел в ванную, чтобы умыть лицо. Холодной водой. Ты напейся воды холодной да про любовь забудешь…
Нет, что-то он путает с Мишкой. Ведь когда она приезжала к нему домой, родители, даже не предполагая, что он совершит такой безумный поступок, сильно задержались, и в одиннадцать, в полдвенадцатого, он одел сонного брата (ну не поднял же он его с постели?) и отправился вместе с ним провожать Нину в Химки.
Почти всю дорогу они молчали. Разговор был довольно идиотский:
– Не надо тебе со мной ехать. Так поздно. На Чику нарвешься.
– На кого?
– Есть там у нас один псих. Если он тебя встретит, плохо будет.
– А тебе плохо не будет?
– Мне нет, я его с детства знаю. А тебе будет плохо.
Он помолчал.
– Ничего, я с братом. С ним мне не страшно. – (Мишка уже практически спал.) – Ничего они мне не сделают.
– Сделают-сделают, – жестко сказала она. – И тебе, и брату. Отведут его в сторонку, и…
Тем не менее он сел в автобус от «Речного вокзала», опять всю дорогу молчали, соседи странно на них посматривали, они вышли на ее темную улицу, прошли почти до дома, она остановила его и сказала:
– Вон мой дом. Вон подъезд. Не провожай дальше. Я тебя очень прошу.
Он стоял и смотрел, как она идет по улице, мимо темных шелестящих деревьев, под светом фонарей, которых на этой химкинской улице было не так чтобы много, потом хлопнула дверь («Ну, пошли?» – грустно спросил Мишка), потом они переходили по вонючему подземному переходу Ленинградку, потом не очень долго ждали автобуса (спасибо тебе, аэропорт «Шереметьево-1»), в начале первого вошли в метро, около часа – к себе домой.