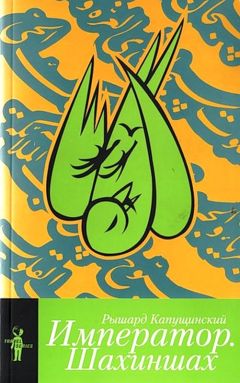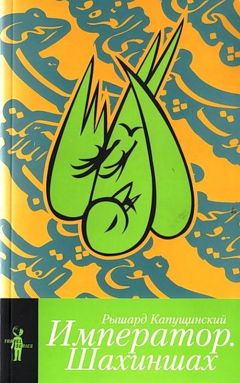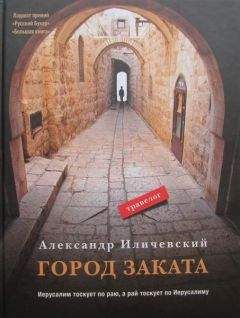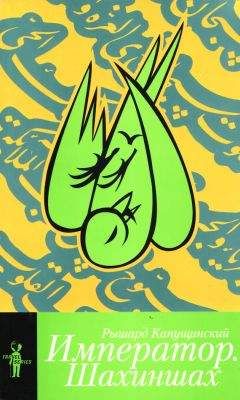Рышард Капущинский - Путешествия с Геродотом
Мы стоим в темноте, окруженные светом.
Я вернулся в гостиницу. За стойкой вместо захворавшего парня стояла молодая черноглазая турчанка. Когда она увидела меня, ее лицо приняло выражение, в котором профессиональная улыбка, призванная привлекать и искушать туристов, сдерживалась императивом традиции демонстрировать в отношении чужого мужчины серьезность и бесстрастность.
Памяти Рышарда Капущинского
Послесловие
Ксения Старосельская
Я с глубокой благодарностью думаю о книгах, которые он написал, и с глубокой печалью — о книгах, которых не успел написать. Большой писатель, благородный человек, без устали странствовавший по нашему завораживающему, но вечно неспокойному миру. Человек, для которого любые барьеры существовали лишь для того, чтобы их преодолевать — мыслью, сердцем, творчеством.
Вислава Шимборская, лауреат Нобелевской премии по литературеВ Варшаве 23 января 2007 года умер Рышард Капущинский. Умер, месяц с небольшим не дожив до своего семидесятипятилетия. Не дожив, очень возможно, до получения Нобелевской премии — его имя в 2006-м называлось среди кандидатов, а многие с уверенностью говорили: «Ну уж в будущем году непременно…». Весть о его кончине мгновенно облетела мир. В самых разных уголках земли последние тридцать лет в ответ на вопрос, кто вам известен из современных польских писателей, едва ли не первым прозвучало бы имя: Капущинский (не в одном книжном магазине в Европе у него есть «своя» полка, чего удостаивается далеко не всякий писатель). В разных уголках, но, к сожалению, не у нас… впрочем, об этом позже.
Кто он был? Каким был? Ответить очень просто: он был репортер, который возвел репортаж в ранг высокого искусства («лучший журналист XX века» — по мнению Гарсиа Маркеса; «Геродот нашей эпохи» — прозвучало со страниц «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»). Он был поэт (недавно в Польше опубликован томик его стихов), и этот дар, очевидно, помогал ему писать свои книги так, что материя сухих фактов обретала поэтические черты, увлекала читателя, и тот, погружаясь в живой, наглядный мир образов и событий, становился их участником и одновременно получал импульс к серьезным размышлениям. Салман Рушди однажды сказан: «Если тебе нужны сухие факты, обращайся к кому-нибудь другому; за Капущинского берешься тогда, когда хочешь вникнуть в предмет глубже и основательнее». Любознательность его не знала границ: ему было дело до всего, что происходит здесь и сейчас; он был щедр и делился своими впечатлениями и наблюдениями, своими мыслями, никогда не навязывая собственного мнения, не беря на себя роль судьи, не принимая ничьей стороны — описывал то, что видел и как видел, брал нас с собой в свои путешествия и открывал такие пласты, куда без него мы бы не сумели проникнуть. Он был скромен, прост, обаятелен; с ним было интересно и легко. Он был смел — кто-то может сказать «до безрассудства». У него был острый глаз и потрясающая интуиция: он умудрялся оказываться в горячих точках планеты ровно в тот момент, когда там происходили важнейшие не только для данной страны, но и для всего мира события. Он не ведал, что такое равнодушие; ему был интересен каждый собеседник — он умел слушать и понимать. Он был полон энергии и планов. Он был стремителен, молод; он был живой — невозможно поверить, что его больше нет. Правда остались книги; они — свидетельства бурной истории второй половины XX века и образец для тех, кто хочет овладеть журналистским мастерством; откликнувшись на известие о его смерти, мексиканская газета «Эль Универсал» сообщила: «Его книги стали обязательным чтением для студентов журналистики во всем мире».
Писать Рышард Капущинский стал очень рано: в 17 лет опубликовал первую заметку в газете. По образованию он историк, по роду занятий — журналист. Главный круг интересов — страны Третьего мира. Впервые поехал за границу — в Индию — в 1956 году, и началась жизнь корреспондента: с 1962 года он работает в Африке (в воюющее Конго, рискуя жизнью, проникает тайком, без разрешения), в 1967-м — ездит по закавказским и среднеазиатским республикам Советского Союза, с 1967 года — корреспондент в Латинской Америке, с 1974-го — в Анголе, с 1974-го по 1980-й побывал в Эфиопии и Иране, потом опять в СССР — в бурное перестроечное время, потом опять в Африке… И всегда, вернувшись, садился за книгу, а потом, не дожидаясь ее выхода, снова куда-нибудь уезжал, возвращался, писал… и так всю жизнь. В конце жизни — так уж получилось — написал о величайшем (по его собственным словам) репортере всех времен — Геродоте, точнее о себе как его ученике в тени учителя. Писал постоянно, хотя в 2000 году признался, что устал от слов: «Слова подешевели. Размножились, но потеряли значимость. Они везде. Их слишком много. Они клубятся, кишат, облепляют тебя, как стаи назойливых мух. Оглушают. Мы тоскуем по тишине. По молчанию. Хочется пройтись по полю. По лугу. По лесу, который шумит, но не болтает, не тараторит, не токует». И все равно не молчал. Не считал себя вправе молчать — тем более сейчас, когда на всем свете люди, не задумываясь о последствиях, творят безрассудства, не желают, несмотря на печальный опыт прошлого, браться за ум, когда повсеместно множится жестокость, горе, несправедливость. Ведь для него профессия журналиста, писателя была не средством сделать карьеру, а миссией. На литературном фестивале в Нью-Йорке в 2004 году в ответ на вопрос, может ли литература что-либо изменить в нашем мире, он сказал: «Может. Уверен — иначе я не мог бы писать».
Пожалуй, лучшая книга Капущинского — «Император»; ее герой — эфиопский правитель Хайле Селассие, а составлена она из перемежающихся авторскими вставками саморазоблачительных «исповедей» анонимных царедворцев. В ней усматривали аллюзии на господствующий в Польше режим, но брать надо шире: это повествование о механизмах любой диктаторской власти, о взаимоотношениях двора и правителя. Читается «Император» залпом, как роман, портреты персонажей столь выразительны, что так и просятся на сцену (и в варшавском театре «Повшехны» в 1979 году был поставлен прекрасный спектакль). Не менее увлекателен (и полезен как предостережение для будущих диктаторов) «Шахиншах» — рассказ о режиме иранского шаха Реза Пехлеви и крушении этого режима (иранская революция начала 80-х была двадцать седьмой по счету, свидетелем которой оказался Капущинский). «Император» переведен на 21 язык (в том числе на русский — неприметная книжечка небольшим тиражом была издана в СССР в 1992 году), «Шахиншах» — на 12; на русском — увы, только после смерти автора — он вышел под одной обложкой с «Императором» в издательстве «Логос» в 2007-м. О крахе другого режима, советского, в частности, рассказывается в «Империи» (1993), где собраны впечатления Капущинского о поездках по СССР — от дальнего севера до южных окраин — в разные годы, вплоть до 1993-го. И «фронт» разворачивающихся в стране событий в эпоху перемен (1989–1991) прибавился к двенадцати настоящим фронтам, на которых автор за свою жизнь побывал. И тут он смело кидался в самое пекло, едва не погиб «при исполнении», как случалось уже не раз (чуть не утонул у берегов Занзибара, умирал от тяжелейшей малярии в Уганде и от жары и жажды — в Сахаре, четырежды чудом избежал расстрела): в Баку в 1989-м лежал один с высокой температурой, в полубреду, в квартире, брошенной бежавшими от погромов хозяевами. (А 14 декабря, еще не оправившийся, выстоял на лютом морозе длинную очередь в московский Дворец молодежи, чтобы проститься с Андреем Сахаровым.)
Проводя годы за пределами своего отечества, Капущинский не отрывался от польской реальности. В один из самых драматических моментов истории Польши — в августе 80-го, когда на Балтийском побережье начались массовые акции протеста и впервые громко заявила о себе «Солидарность», — он мчится туда, к бастующим рабочим Гданьской судоверфи. В еженедельнике «Культура» печатались его страстные репортажи, констатирующие и приветствующие рождение новой Польши; с его легкой руки в обиход вошел термин «роболь» — не рассуждающий, покорно тянущий лямку работяга, на смену которому пришел новый рабочий, наконец очнувшийся и выступивший в защиту своих прав; это великой важности событие он назвал «Праздником Распрямившихся Спин, Поднятых Голов».
С конца 80-х Капущинский начинает публиковать произведения особого жанра — по сути, тоже документы новейшей истории: за 15 лет выходят пять книг с одинаковым названием «Лапидарий» («Лапидарий I, П» и т. д.). В предисловии к первой из них (отрывки напечатаны в 1993-м в журнале «Иностранная литература») он пишет: «Лапидарий — это место, куда складывают найденные камни, остатки скульптур, строений, словом, предметы, являющиеся частью несуществующего (уже, еще, никогда) целого, с которым неизвестно, что делать. Может, они сохранятся как свидетельство минувшего времени, как след исканий, как символы? А может быть, в нашем мире — страшно разросшемся, огромном и необозримом, хаотичном и не поддающемся упорядочению — все тяготеет к штатскому коллажу, произвольной композиции, то есть именно к лапидарию?» «Лапидарии» Капущинского — собрание дневниковых записей, цитат, собственных соображений по тому или иному поводу, портретных зарисовок; фрагменты этой мозаики читатель волен выбирать и складывать соответственно своим интересам.