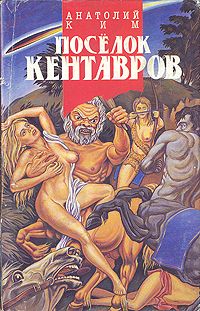Ульяна Гамаюн - Ключ к полям
Кошка на раскаленной крыше
Жалко, что вы всех своих писателей убиваете на дуэлях.
Джулиан БарнсО, жизнь несправедлива, это как пить дать! Вымирает азиатская арована, математикам не вручают Нобелевки, а Бартоломеу Диаш пропал без вести близ открытого им за двенадцать лет до этого мыса Доброй Надежды.
Я часто думаю об алых крыльях, особенно теперь, когда делать мне, по большому счету, нечего – знай себе сиди да пялься в окно, на снежные, нежные волны сугробов, розовые хохлы и сдобные султаны на подоконнике. Иногда мне кажется, в каком-то жару, чаду или что там еще случается с экзальтированными ипохондриками, что безмолвная бесконечность за стеклом – чья-то глупая шутка; что некий белый великан с пристрастием к черному юмору поставил перед моим окном хрустальный шар, и навязчивая зима заслонила, съела пышущее солнцем лето. Впрочем, я не жалуюсь: картинки мне показывают сказочные, зимняя панорама чудесна. Рисовой пудрой сеется снег, хрупкие ветки, каждая с ледяным ободком, необыкновенно четко сквозь него проступают – талантливая, декоративная работа кропотливого мастера. Вечерами на маленьком пруду (мне виден за деревьями его круглый локоть) катаются на коньках миниатюрные, с гениальной дотошностью выписанные человечки, удивительно похожие на сверчков. Летом они, я уверен, катаются, но уже без коньков, на том же пруду. Еще я неожиданно заинтересовался воронами, теми самыми, что «Nevermore». Они, правда, не стучатся в мои ставни и вообще избегают смотреть в мою сторону. Эти птицы вообще очень замкнуты и молчаливы. Я чувствую к ним все возрастающий интерес дальнего родственника. Эти черные схимники бередят во мне жизнь со всеми сопутствующими ей мерзостями, и я вспоминаю, не могу не вспоминать.
Я по натуре созерцатель, я это говорил вам уже сто одиннадцать раз; судьба благоволит ко мне, когда я созерцаю, не вмешиваясь в ее златотканые плутни, но стоит мне начать действовать – и она пребольно щелкает меня по носу. Я по натуре созерцатель (сто двенадцатый), это мой диагноз и моя любимая мозоль, к которой я горячо привязан. Есть такие мелкие изъяны, ахиллесовы пятки природы, которые любишь больше греческих профилей. В тот вечер, затянувшийся до первых колик рассвета, я решил действовать, и (кто бы сомневался!) все вдрызг испортил. Голос разума, голос любимой мозоли, мне еще тогда говорил, что будет мрак и больше ничего, но голос совести оказался пронырливее. Никогда не идите против любимых мозолей!
И еще одно, пока мы не нырнули: те, что вечно заглядывают мне через плечо, не устают повторять, что россказни мои сбивчивы, невразумительны и лишены мало-мальского порядка. На это я отвечу, что моя память – так уж исторически сложилось – имеет форму слегка примятого арбуза, алого и богатого семечками. Я режу ее и дольками выдаю всем желающим. А еще добавлю, что вместо того, чтобы мешать художнику творить образы и не суесловить, лучше бы эти вразумительные соглядатаи занялись чем-нибудь общественно полезным.
Итак, подныривая под шорох шелковых пурпуровых завес, сквозь зеленую толщу времени, я вижу тающую в воздухе чеширскую улыбку Пульчинеллы и, разгоняя пузырьки и стайки полосатых рыб, звучит, все громче, Земфирина «Припевочка». Как только коварный мирискусник свернул свою лавочку, разряженные статисты с привычной покладистостью вернулись к своей карнавальной пляске («Припевочка» грациозно перетекла в клубную музыку). Лощеные, инкрустированные фальшивым жемчугом маски как будто потеплели: в танце они казались человечнее. Я не хочу никого оскорблять, поймите меня правильно, никакой ненависти к этим созданиям я не испытывал, они даже нравились мне – такие по-христиански смиренные. Под иным углом зрения, да коли хорошенько затемнить веревочки, прикрепленные к щиколоткам и запястьям, они вполне сошли бы за живых существ, просто мне этот угол был малоинтересен. На балу симпатичных монстров я чувствовал себя чужим, незваным пришельцем. Продираясь между Коломбинами и Котами (у тех и других губы плотно, в ниточку сжаты), мешая им танцевать, я до нервных судорог боялся коснуться того, что было укрыто под блестками и шелками.
Есть такая заповедь в танго: для того, кто ведет танец, опасно делать шаг назад, особенно против линии танца. А линия намечалась презабавная. Я был ведущим, точнее, я водил в этой игре в жмурки, с закрытыми глазами, под едкие смешки публики, продвигаясь к пропасти. С туманом в голове и иллюзией храбрости в сердце я решил, что вырвать Арлекина из когтистых лап Пульчинеллы – мой священный долг, даже если сам Арлекин не очень этими лапами тяготится. Грима, этот взбунтовавшийся червяк, не сильно меня беспокоил. Выронив нож, он загубил свой последний шанс очеловечиться. С ним покончено.
Я почти не удивился, когда чья-то рука в перчатке мягко потянула меня за локоть: в этой давке границы между людьми были давным-давно стерты, все здесь с готовностью принимали друг друга за кого-то другого. Вам дарили поцелуи и тычки в бок, в любой момент вас могли пырнуть чем-нибудь острым, и это притягивало сильнее, чем любовное приключение, – притягательная сила смерти. Меня, однако, не пырнули, и даже поцелуя я не дождался. Вместо этого мне в затылок выдохнули жаркое:
– В другую сторону.
Объятие ослабело; обернувшись, я увидел только яичные скорлупки масок, их гладкие щеки и обметанные стразами рты. Серебристые шелка, пышные кринолины – бурунами, волнами, далеко, до самого горизонта. Однако в том, что это была дама в красном, девушка-волан, сомнений не было никаких. В другую сторону? В какую? И почему я должен верить? Я остановился в нерешительности, вызвав всплеск негодования у вертлявого Труффальдино и его пышногрудой суженой, которым для каких-то особых пируэтов требовалось мною занимаемое пространство. Я горестно подумал, что так и не научился танцевать.
Барахтанье в толпе отбирало уйму сил и, главное, времени. В каком поднебесье, на какой фабрике производят секунды? И неужто за столько веков не могли нашлепать их побольше? Что говорить... Словно бабочку – в самое сердце – я хочу поразить тебя, время...
Время я не поразил, но увидел взамен кролика Буонаротти. Он был неплох у цирка с ирисами, он был неотразим сейчас – трехметровый исполин, испанский дворянин. Не человек – маяк в ночи: его щедро утыканный перьями шлем и бархатная бородка реяли над карнавальным морем, обещая заплутавшим суденышкам скорое спасение. Не раздумывая, я погреб к маяку. Капитану, видимо, на роду было написано вести меня, как ягненка, на заклание.
Он был не один: чуть поодаль, отчаянно жестикулируя, выясняли отношения девушка-волан и ее фисташковый ухажер; у самого Микеланджеловского локтя терся черный закутанный субъект, у другого локтя стоял Арлекин. Как говорил незабвенный Трелони: «Я думал, что я нашёл повара, а оказалось, что я нашёл целую команду».
Подобравшись поближе, я расслышал, как великан весело вещает: «Я Капитан Ужас из Адской Долины, величайший убиватель, укротитель и повелитель Вселенной, сын землетрясения и молнии, родственник смерти и закадычный друг великого адского дьявола!» Жужа, снова в черной полумаске, смеялась, показывая ровную, словно нарисованную нитку зубов.
Мне сложно описывать, что происходило дальше, хотя моя дальнозоркая память хранит этот вечер в своем лукошке, как хранят сухие лепестки в сентиментальных, зачитанных до дыр книгах. Я шел на маяк, я до смерти боялся, что маяк, меня не дождавшись, исчезнет, остальное не имело никакого значения. Вряд ли я что-нибудь соображал; меня несло, я несся, но именно тогда во мне зародилась и окрепла – мысль? идея? – нет, скорее огненный шар с мыслью-идеей внутри, что я должен ее – Жужу – съесть. Эта убежденность родилась, как, наверное, рождается молитва у искренне верующего, и так же, как молитва, зазвучала помимо моей воли, повторяясь, наматываясь, как нить на деревянную болванку.
Она что-то быстро говорила Капитану (тот учтиво склонился, поглаживая рыжий клок бороды). Чернявый пухляк без особого интереса терся рядом. Я схватил Жужу за руку, резко потянул за собой. Она ойкнула, попыталась зацепиться за Капитана, но тот не вышел из роли трусливого пройдохи и помогать не стал. Черный субъект, ничем, кроме отрывистых телодвижений, не выдавая свои эмоции, попытался меня обезвредить (я даже зауважал его за это), но что мне его слабенькие крылья? Никто больше не чинил мне препятствий: буйная парочка, отгалдев положенное, самозабвенно целовалась, Капитан, полосатый, как ярмарочный леденец, с рассеянным видом обводил взглядом зал, маски осатанело дрыгали торсами. До чего же легко творить зло! Я умилился сам себе – Арлекин всемогущий! Чего желает ваша светлость? Жужу? Вареную, жареную, под соусом бешамель? Да, ваше высочество, как скажете, ваше величество. Так легко, так легко – даже скучно становится!
Но не было единого Арлекина: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все это и произошло.