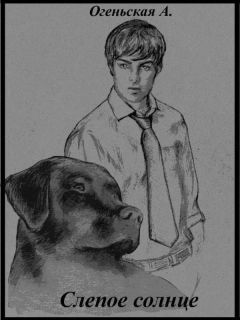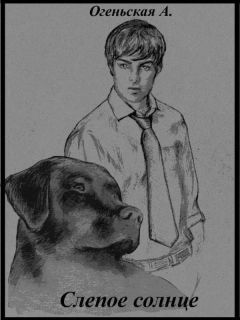Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 4, 2002
Собственно говоря, здесь мы сталкиваемся еще и с проблемой политизации «мертвого» тела, пересекающего границу «жизни». Споры о том, можно ли трогать тело Ленина, очень напоминают западные разговоры о том, можно ли использовать тела людей для тех или иных целей, например, в качестве доноров или музейных экспонатов. И вообще, кого считать уже умершим, а кого нет. Для кого-то Ленин жив до тех пор, пока не прекратился обряд прощания с телом. А для кого-то он умер тогда, когда перестал быть «вождем», то есть задолго до «мозговой смерти». Сегодня на Западе граница «смерти» передвинулась далеко вперед, когда остановка сердца, дыхания, отсутствие рецептивных функций вовсе не являются критериями «прекращения жизни». Но и новые критерии «мозговой смерти» живы лишь до тех пор, пока технологии пересадки не шагнут еще дальше. Государство же начинает претендовать на тела визуально живые, но юридически «мертвые», начинает распространять права собственности на их «живые» органы.
В России, наоборот, граница «смерти» ушла далеко назад. Государство на практике уже слабо интересуется больными, увечными, инвалидами, паралитиками, коматозными, находящимися при смерти, пропавшими без вести и прочими категориями нетрудоспособных граждан. Создается иллюзия, что в политическом смысле русский человек «умирает» если не в момент утраты трудоспособности, то уж, во всяком случае, задолго до «клинической смерти» в ее европейском понимании. Подобный идеологический стиль политизации тела не может не влиять отрицательно на продолжительность «жизни», на статистику «смертности». Проблема отношения к тем, кто уже «не совсем жив», — это, таким образом, именно политическая проблема. Здесь много подтекстов, связанных с рецепцией ритуального, но очень мало биологического.
Тело как предмет, как вещь неизбежно символизируется и становится в ряду множества знаков «власти». Собственно, власть с такой точки зрения — это и есть некое пространство нахождения подобных объектов. Среди них — Мавзолей, Останкинская башня, Кремль, Красная площадь, станция «Мир», колокольня Ивана Великого, президентский самолет, метрополитен, Лобное место, двуглавый орел, храм Христа Спасителя и т. д. Здесь уже встает вопрос о топографии предметов и политического пространства как набора этих предметов. Башня, колокольня, Кремль и Мавзолей приобретают симптоматические смыслы. Они перестают быть архитектурными сооружениями и становятся знаками чего-то другого. Они — лишь внешние показатели внутренней сущности власти. То есть они и есть смысл власти, ее наполнение. Они превращаются в симптомы внутренних социальных процессов. Таким образом, Мавзолей — это тоже симптом чего-то другого. Например, процесса жизнедеятельности власти. Можно сказать и так: раз туда все ходят, значит, им это нужно. Раз об этом говорят, значит, властвуют. Разговоры о Мавзолее — это и есть состояние власти.
Проблема ленинского Мавзолея связана со всем комплексом русских народных представлений о смерти, власти, об устройстве вселенной. То есть проблема перезахоронения тела Ленина не может быть решена без учета особенностей народной картины мира. Уничтожение Мавзолея стало бы его новой смертью, порождающей все новые и новые проблемы. Гибелью некоего символического идеального центра Мира. И соответственно нежелание перезахоронить Ленина — это и есть нежелание отказаться от такого «центра» русского идеологического пространства. Центра, задающего опять же неоднородность российского политического топоса.
Итак, необходимо объяснить самим себе, кого, для чего, где и как мы собираемся хоронить. Если это православные похороны, то нужно определить статус покойника, особенно в том случае, если он был лишен всех предсмертных обрядов, в том числе покаяния и отпущения грехов. Решение этой проблемы без учета народных традиций может быть также осложнено определенными массовыми реакциями и непредсказуемыми последствиями. И это тоже проблема «пограничная», связанная с общим кризисом подобных, извините за выражение, идеологем.
Народные же представления включают в себя два основных пласта. Первый — воплощение христианской идеи Воскресения, ожидание возрождения вождя к новой жизни. «Иисус придет вновь на землю и воскресит его», — сказала мне одна пожилая женщина. В этом христианском взгляде, как мы уже говорили, намешано много языческого, для многих Ленин — бог, лежащий в пирамиде. Ассоциации его с египетским фараоном общераспространены и устойчивы. На мой вопрос: «Кто такой Ленин?» — маленький мальчик мне ответил: «Это воин». — «Что за воин?» — «Богатырь, он лежит в кургане». Широко распространены народные приметы, связанные с телом Ленина. Например, если пойти в Мавзолей и не моргая смотреть на Ленина, то можно узнать будущее. Если он пошевелит рукой или мигнет — быть беде, а если лежит неподвижно, значит, все будет хорошо. Вот вам и христианство. При христианском же подходе смерть — это, кроме всего прочего, еще и наказание, кара за грехи. Адам стал смертен лишь после грехопадения и изгнания из Рая. Но первородный грех и Божья кара — это не для Ленина, он не может быть наказан. «Святой он человек» — слова другой женщины. Для коммуниста Ленин — почти что бог, полюс Добра. А для крайне правого либерала — почти что Дьявол, то есть полюс Зла. Говорили даже об «ауре зла» на Красной площади. Поэтому в желании правых либералов как можно скорей захоронить Ленина можно усмотреть также некоторые ритуальные смысловые оттенки: желание отправить Дьявола обратно в ад.
Второй пласт народных представлений о Ленине — кощунственный, смеховой. В таких текстах нахождение в Мавзолее акцентируется как временное: «Пролетарий ждет открытия винного магазина. Подбрасывает и ловит юбилейный рубль с Лениным и приговаривает: „У меня не в Мавзолее, не залежишься!..“» Подразумевается, что Ленин лежит здесь слишком долго и без дела. В подобных анекдотах один из центральных персонажей — воскресший вождь: «Воскрес Ленин. Смотрит, все не то. Ну, подал он документы и через неделю получил вызов из Израиля от родственников по материнской линии. Приходит в ОВИР. „Куда вы, Владимир Ильич?“ — „В эмиграцию, батенька. Все надо начинать с начала!“» Эта традиция знает кощунственные в прямом смысле тексты, где герои проклинают друг друга, используя трехэтажные матерные формулы. Причем матерится и сам Ленин: «Брежнев приходит в Мавзолей с внуком. Внук спрашивает: „Дедушка, а после смерти ты здесь будешь жить?“ — „Конечно здесь!“ Тут Ленин встает и говорит: „Да что вам здесь, е… вашу мать, общежитие, что ли?!“» Непристойно ведут себя и посетители: «Рабочий, выходя из Мавзолея, расчувствовался: „Ленин-то, е…ь его мать, лежит — ну как живой!“ — „Да ты где находишься?“ — спрашивает милиционер. „Да я что, я говорю — Ильич-то наш родной, е…ь его мать, лежит ну совсем как живой!“ — „Да ты где находишься?“ — орет милиционер. „Да я-то чё? Я только говорю: Ленин-то наш…“ — „Да х… с ним, с Лениным, я спрашиваю, ты где находишься?!“» Но область профанации высокого может существовать только в том случае, если уже сформировалась область этого самого высокого, то есть священного. Видимо, Ленин постепенно превращается в апокрифического народного мученика. С такой точки зрения спор левых и правых, битва «мавзолеефилов» и «мавзолеефобов», воспринимается как естественное продолжение многовекового культурного противостояния святого и кощунственного.
Виктор Мясников
Историческая беллетристика: спрос и предложение
Мясников Виктор Алексеевич — прозаик, критик, книговед. Родился в 1956 году в Вологодской области. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького и Уральском государственном университете. Автор десяти книг (в том числе — «Оружие Урала», 2000), а также статей в екатеринбургской и столичной прессе.
Зачем нужен исторический роман? Зачем обыкновенному гражданину вообще знать какую-то там давнюю историю? Ведь для развлечения можно и детектив почитать из современной жизни, любовный роман или фантастику. А у нас в России почему-то ощутимый спрос на историческую беллетристику. Не только на нон-фикшн — мемуары, сборники документов и биографии выдающихся людей, — но и на романы «из прошлой жизни». Достаточно подойти к любому книжному прилавку, чтобы убедиться. Книгоиздатели в этом плане — народ чуткий: потянуло прибылью — тут же все силы на удовлетворение спроса.
Но спрос на «историю» в современной России весьма своеобразен. С одной стороны, это желание убедиться в величии собственного прошлого, с другой, наоборот, уничижение, которое паче всякой гордости. Обе тенденции яростно сосуществуют и параллельно развиваются со времен перестройки, и бурный этот процесс породил любопытные внутрижанровые течения. Истоки явления понятны. Когда КПСС начала терять бразды правления, в первую очередь идеологические, народу стали предъявлять историческую правду. В самом горьком ее варианте. Что закономерно: правда о раскулачивании, коллективизации и репрессиях в какой-то мере объясняла материальную скудость современной жизни. Но в то же время она разрушала идеологический фундамент советского государства. Потом государство рухнуло, возникла новая Россия, начался новый исторический этап. Причем для каждого жителя страны в отдельности. И для абсолютного большинства наших сограждан этот процесс оказался чрезвычайно болезненным.