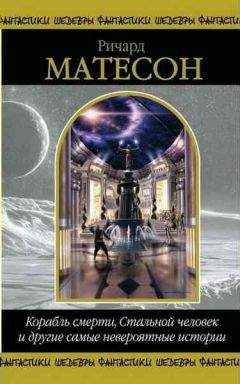Хулио Кортасар - Чудесные занятия
На лице высокого и худого Хавьера — бесконечная усталость. Рассматривая палец с желтым пятном, он рассказывает о каких-то экспериментах, о биологии как источнике скептицизма.
Пьер спрашивает:
— С тобой не случается так, что вдруг ты начинаешь думать о вещах, совершенно не связанных с тем, о чем думал?
— Они бывают совершенно не связаны с моей рабочей гипотезой, и только, — говорит Хавьер.
— В последние дни я чувствую себя очень странно. Ты должен дать мне что-нибудь, что-то наподобие объективатора.
— Объективатора? — говорит Хавьер. — Такого не существует, старина.
— Я слишком много думаю о самом себе, — говорит Пьер. — Это какое-то идиотское наваждение.
— А Мишель тебя не объективирует?
— Как раз вчера… мне пришло в голову, что…
Он слышит свой голос, видит Хавьера, смотрящего на него, видит отражение Хавьера в зеркале — затылок Хавьера, — видит самого себя, говорящего с Хавьером (но почему мне должно было прийти в голову, что существует стеклянный шар у начала перил?), который время от времени кивает: это профессиональный жест, кажущийся столь смешным вне стен рабочего кабинета, когда на враче нет халата, который придает ему вес и облекает иными правами.
— Ангьен, — говорит Хавьер. — Об этом ты не волнуйся, я всегда путаю Ле-Ман с Мантоном. Это, наверное, вина какой-нибудь учительницы, оттуда, из далекого детства.
«Im wunderschönen Monat Mai…» — звучит в памяти Пьера.
— Если будешь плохо спать, скажи мне, и я тебе чего-нибудь дам, — говорит Хавьер. — Как бы то ни было, этих пятнадцати дней в раю, я уверен, тебе будет достаточно. Нет ничего лучше, чем разделить ложе, это полностью проясняет мысли, иной раз даже помогает покончить с ними, — что означает спокойствие.
Может быть, если бы он больше работал, больше уставал, занялся бы обустройством своей комнаты или ходил бы до факультета пешком, а не садился в автобус. Если бы он должен был зарабатывать эти семьдесят тысяч франков, которые присылают родители. Опершись о парапет Нового моста, Пьер наблюдает, как проплывают баркасы, и ощущает на шее и плечах тепло летнего солнца. Какие-то девушки смеются, играя во что-то; слышится цокот скачущей лошади, рыжеволосый велосипедист протяжно свистит, проезжая мимо девушек, они смеются еще сильнее, и вдруг словно взметнулся смерч сухих листьев и в одно мгновение стер его лицо, как будто опрокинув в какую-то ужасную и черную бездну.
Пьер трет глаза, медленно выпрямляется. Это были не слова и также не видение, а нечто среднее между тем и другим: образ, распавшийся на множество слов, как сухие листья на земле (взметнувшиеся и ударившие прямо в лицо). Он замечает, что его правая рука, лежащая на парапете, дрожит. Он сжимает пальцы: борется с дрожью, пока в конце концов не овладевает собой. Хавьер, наверное, ушел уже далеко, и бесполезно бежать за ним, чтобы вписать новую историю в его коллекцию нелепостей. «Сухие листья? — сказал бы, вероятно, Хавьер. — Но на Новом мосту нет сухих листьев». Как будто он сам не знает, что на Новом мосту нет сухих листьев: они — в Ан-гьене.
А сейчас, дорогая, я буду думать о тебе, всю ночь только о тебе. Буду думать только о тебе, это — единственный способ почувствовать самого себя, почувствовать тебя в самом центре моего существа, как некое дерево, и, освобождаясь понемногу от ствола, поддерживающего и управляющего мною, осторожно реять вокруг тебя, ощущая воздух каждым листом (зеленые, зеленые, я сам и ты тоже: ствол живительных сил и зеленые листья — зеленые, зеленые), но не улетая далеко от тебя и не допуская, чтобы что-то постороннее вклинилось между мной и тобой, отвлекло меня от тебя хоть на секунду, лишило знания, что эта ночь вращается и движется к восходу, и там, на другой стороне, где ты живешь и сейчас спишь, также будет ночь, когда мы вместе приедем и войдем в твой дом, поднимемся по ступенькам крыльца, зажжем свет, погладим твою собаку, выпьем кофе и так долго-долго будем смотреть друг другу в глаза, прежде чем я обниму тебя (почувствовать тебя в самом центре моего существа, как некое дерево) и поведу тебя к лестнице (где нет никакого стеклянного шара), и начнем подниматься, подниматься; дверь заперта, но ключ у меня в кармане…
Пьер вскакивает с кровати, сует голову под кран. Думать только о тебе, но как же могло случиться, что его мысли — сплошное темное и глухое желание, где Мишель уже не Мишель (почувствовать тебя в самом центре моего существа, как дерево), где, поднимаясь по лестнице, не удается почувствовать ее в своих объятиях, потому что, едва ступив па ступеньку, он увидел стеклянный шар и оказался один — один он поднимается по лестнице, а Мишель — наверху, за запертой дверью, и не знает, что у него есть ключ, он поднимается.
Он вытирает лицо, распахивает окно навстречу свежести раннего утра. На улице какой-то пьяный сам с собой о чем-то дружелюбно рассуждает, его качает из стороны в сторону, и кажется, будто он плывет в вязкой воде. Он что-то мурлычет, двигаясь туда-сюда, как будто исполняя нечто подобное старинному церемониальному танцу в гризайлевых сумерках[131], которые еще окутывают брусчатку и закрытые порталы. «Als alle Knospen sprangen», — пересохшие губы Пьера едва слышно произносят эти слова, которые сливаются с доносящимся снизу пьяным бормотанием, не имеющим ничего общего с мелодией, но и слова тоже ни с чем ничего общего не имеют: они приходят, как и все остальное, на миг сливаясь с жизнью, а потом возникает озлобление, душевное беспокойство и какая-то пустота, обнажающая лохмотья, что, сцепляясь, образуют такие разные вещи, как двуствольное ружье, груда сухих листьев, пьяный, ритмично танцующий что-то похожее на павану[132], делающий реверансы, при которых причудливо колышутся полы его одежды, а он сам в конце концов спотыкается и невнятно что-то бормочет.
Мотоцикл стрекочет вдоль улицы Алезия. Пьер чувствует, как пальцы Мишель чуть сильнее начинают сжимать его тело всякий раз, когда они почти вплотную обгоняют автобус или заворачивают за угол. Когда красный свет останавливает их, он откидывает голову назад и ждет ласки — поцелуя в волосы.
— Я уже не боюсь, — говорит Мишель. — Ты очень хорошо водишь. Сейчас нужно повернуть направо.
Особняк теряется среди дюжины одинаковых домов, разбросанных по холму немного дальше — за Кламаром. Слово «особняк» для Пьера звучит как убежище, как уверенность в том, что все будет хорошо и уединенно, будет сад с плетеными стульями, а ночью, возможно, светлячки.
— В твоем саду есть светлячки?
— Не думаю, — говорит Мишель. — Что за нелепые мысли лезут тебе в голову?!
Очень трудно разговаривать за рулем мотоцикла, уличное движение требует сосредоточенности, а Пьер уже устал, ведь утром ему едва удалось поспать несколько часов. Не забыть бы принять таблетки, которые дал ему Хавьер, но, конечно, он об этом и не вспомнит, и, кроме того, нужды в них не будет. Он откидывает голову назад и рычит, потому что Мишель не торопится с поцелуем; она смеется и проводит рукой по его волосам. Зеленый свет. «Кончай с глупостями», — сказал в явном замешательстве Хавьер. Конечно, все пройдет, две таблетки перед сном, запить глотком воды. Интересно, а как спит Мишель?
— Мишель, как ты спишь?
— Отлично, — говорит Мишель. — Но иногда снятся, как и всем, кошмары.
Ну конечно, как и всем, но только, проснувшись, она знает, что сон уже позади, он не вплетается в шумы улицы, не накладывается на лица друзей, не просачивается в повседневные заботы (Хавьер сказал, что достаточно двух таблеток — и все будет хорошо); она, наверное, спит легко дыша, уткнувшись лицом в подушку и слегка согнув ноги; и такой он ее увидит сейчас и, сонную, прижмет ее к своему телу, слушая ее дыхание, и она будет беззащитной и обнаженной, и он будет гладить ее волосы; свет желтый, красный, стоп.
Он так резко тормозит, что Мишель вскрикивает, но потом успокаивается, будто устыдившись своего испуга. Опираясь одной ногой о землю, Пьер оборачивается и чему-то потерянно улыбается, и это нечто — не Мишель, и улыбка так и не сходит с его губ. Он знает, что сейчас загорится зеленый, за его мотоциклом пристроился грузовик и легковушка. Кто-то уже сигналит: один, два, три раза.
— Что с тобой? — спрашивает Мишель.
Объезжая, водитель легковушки сыплет ругательствами, и Пьер медленно трогает с места. Мы остановились на том, что я ее увижу такой, какова она есть: беззащитная и обнаженная. Это уже было сказано, мы как раз дошли до того момента, когда увидели ее, как она спит — беззащитная и обнаженная, то есть нет никакой причины, чтобы даже на миг предположить, что будет нужно… Да, слышу: сначала — налево, потом — еще раз налево. Там, это — вон та шиферная крыша? Сосны — как красиво! О, какая прелесть — твой особняк, сосновая рощица, а твои родители уехали, в это нельзя и поверить, Мишель, в подобное почти невозможно поверить.