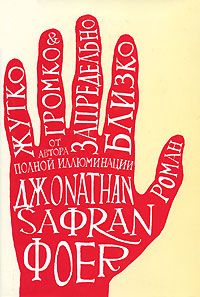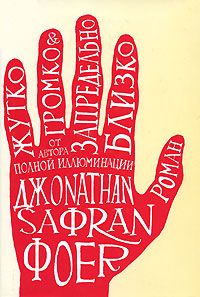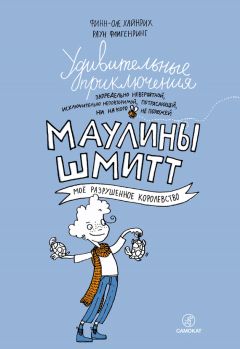Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Городок, что я выдумал…»
Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.
Вырубается музыка, как музыкант ни старается.
Фонари не горят, как ни кроет их матом электрик-браток.
На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица.
Барахлит городок.
Виноват, господа, не учел, но она продолжается,
всё к чертям полетело, а что называется мной,
то идет по осенней аллее, и ветер свистит-надрывается,
и клубится листва за моею спиной.
«Бритвочкой на зеркальце гашиш…»
Бритвочкой на зеркальце гашиш
отрезая, что-то говоришь,
весь под ноль
стриженный, что времени в обрез,
надо жить, и не снимает стресс
алкоголь.
Ходит всеми комнатами боль,
и не помогает алкоголь.
Навсегда
в памяти моей твои черты
искажаются, но это ты,
понял, да.
Да, и где бы ни был ты теперь,
уходя, ты за собою дверь
не закрыл.
Я гляжу в проем: как сумрак бел…
Я ли тебя, что ли, не жалел,
не любил.
Чьи-то ледяные голоса.
В зеркальце блестят твои глаза
с синевой.
Орден за Анголу на груди,
ты ушел, бери и выходи
за тобой.
«За обедом, блядь, рассказал Косой…»
За обедом, блядь, рассказал Косой,
что приснилась ему блядь с косой —
фиксы золотые
и глаза пустые.
Ломанулся Косой, а она стоит,
только ногтем грязным ему грозит:
поживи, мол, ладно —
типа: сука, падло.
Был я мальчик, было мне восемь лет,
ну от силы девять, и был я свят
и, вдыхая вешний,
мастерил скворешни.
А потом стал юношей, а потом —
дядей Борей в майке и с животом.
типа вас, Косого,
извини за слово.
И когда ложусь я в свою кровать,
вроде сплю, а сам не умею спать:
мучит чувство злое —
было ли былое?
Только слезы катятся из-под век —
человек я или не человек?
Обступают тени —
В прошлое ступени.
«Мальчишкой в серой кепочке остаться…»
Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.
Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.
Скамейку выбирая, по аллеям
шататься, ту, которой навсегда
мы прошлое и будущее склеим.
Уйдем — вернемся именно сюда.
Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.
Поскольку их начало отзвучало,
на память не оставив ничего.
как дождик по карнизу отстучало,
а может, просто не было его.
Но мальчик был, хотя бы для порядку,
что проводил ладонью по лицу,
молчал, стихи записывал в тетрадку,
в которых строчки двигались к концу.
«Погадай мне, цыганка, на медный грош…»
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.
Отвечает цыганка, мол, ты умрешь,
не живут такие в миру.
Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.
Что убьет тебя, молодой? Вина.
Но вину свою береги.
Перед кем вина? Перед тем, что жив.
И смеется, глядит в глаза.
И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.
Разговор с Богом
— Господи, это я мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
— Это мои друзья.
На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки.
— Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью
назови, ад посули посмертно, но не лишай любви
високосной весной, слышь меня, основной!
— Кто эти мудочёсы?
— Это — со мной!
РОТТЕРДАМСКИЙ ДНЕВНИК
Я зашел в бар, смутился, вышел и быстро пошел к бару напротив. Сел за столик и решительно попросил виски вифайс, визаут вотэ. На вопросительный взгляд мулатки отчеканил эндбир. Вынул из кармана сигареты и тоскливо закурил: дорогое удовольствие, если переводить на рубли, очень дорогое. Потом стал пялиться в окошко и машинально думать о всякой чепухе. О том, что, вот, чуть не забурился к педерастам (не стоит об этом говорить бывшим однокашникам и бывшему шефу, по разным, правда, причинам — те могут уважать перестать, а этот сам голубой), о том, что Рейн рассказал мне о Луговском, о том, что я люблю свою жену и сына и очень хреново мне без них, о идиотской архитектуре Роттердама, о греческом поэте, пишущем на турецком, а живущем в США, совершенном, по-моему, придурке, о красивой девушке, с которой провел какое-то время, так и не врубившись, проститутка она или нет, о разном стал думать.
Виски принесли. Пиво тоже. За окном пошел дождь.
«Шел, шел дождь, я пришел на их…» — мелькнула в башке строчка Гандельсмана. Хорошие стихи. Я печатал их, когда начинал работать в «Урале», когда только начинал работать в «Урале», когда казалось важным работать в «Урале», когда я выклянчил у Уфлянда[77] стихи, а Коляда[78] швырнул мне их чуть ли не в лицо, крича что-то о матерных дешевых песенках, когда я пришел домой, развязал, выпил и стал обзванивать всех и плакать, а утром — обзванивать всех и, опохмеляясь какой-то дрянью, извиняться, говорить, что впредь, Сергей Маркович, Ольга Юрьевна, Евгений Борисович, Олег, Саша, Ирина, этого не повторится. А Владимиру Иосифовичу так и не позвонил (до сих пор), гад, не сказал, что так вот и так.
«Шел, шел дождь, я пришел на их…»
Месяц спустя шел дождь за окном дурки, того ее отделения, куда свозят со всего Екатеринбурга алкашей плюс наркоманов со всеми их однообразными глюками, страхами, болью. Я сидел в сортире, единственном месте, где позволялось курить, и глядел в окно, когда сосед по палате, сухой человек с жестким взглядом, предложил мне побег. Он сказал, что замок на оконной решетке открыть, как два пальца обоссать, что второй этаж, конечно, херня, но лучше использовать веревку, которая у него есть, а относительно погони сказал, что мы на фиг никому не нужны. В эту же ночь мы бежали. В больничных тапочках и пижамах — он своей дорогой, я своей, к школьному другу Сереге Лузину, не к жене же, не к родителям. Серый был с барышней, которую тут же выпроводил и объявил, что минимум триппер ему обеспечен. Он всегда так говорит. Серый сходил за пивом и стал внимательно слушать. Выслушал, рассказал о себе и начал старую больную тему. Тебе снится? — спрашивал он. Снится! — отвечал я. Жаль! — говорил он. Да, очень… — вздыхал я. Очень жаль. Он бы мог стать великим боксером. И я бы мог стать. Мы тренировались каждый день, мы ездили на соревнования, мы завешивали грамотами стены туалета — якобы все это дерьмо и пустяки, мы благоговели перед нашим тренером, спивающимся экс-чемпионом Европы, мудрейшим из мудрейших и вообще… Все шло гладко, но женщины, женщины и водка, вернее — спирт, канистра коего стояла на кухне у близняшек, к которым мы повадились захаживать после уроков и вместо тренировок. Налегали на то и на другое, пустив побоку грядущее, которому теперь только и остается что проявляться в трогательных снах типа-бизнесмена и вроде как поэта.
Я хотел было заказать еще виски, но решив, что это будет слишком, прошел квартал и определился в каком-то кафе, заказал виски. Дождь за окном кончился. Глупо, — подумал я, — глупо тратить кровные гульдены, когда там, в баре для поэтов, можно пить сколько угодно на халяву! Чего я, в сущности, стыжусь, — подумал я, — все равно вечером притащусь туда в совершенно пьяном виде, и организаторам все равно придется вызывать для меня такси и усиленно улыбаться? С другой стороны, — подумал я, — хрен с ними, с деньгами. Они, деньги, как-то у меня бывают, не много, но постоянно. Я достал из кармана свернутый трубочкой голландский журнал, развернул, раскрыл на нужной странице и попробовал уловить хотя бы ритм своих же собственных стихов в переводе Ханса Боланда. Hans Boland. Это человек, которого Рейн сделал героем одной из своих поэм, якобы этот Ханс Боланд жуткий наркоман и украл у автора сумку с деньгами и документами. Боланд, как сказал мне Саша Леонтьев, очень обиделся на Рейна и вообще на русских поэтов: пьют, сказал, много, а нам, голландцам, все это очень не нравится. Ну, не нравится, и пошел на хуй! Саша Леонтьев, раз уж он тут появился, так укоризненно на меня посмотрел, когда услышал это, что я устыдился. Ты же сам-то не русский, а еврей, — говорит Саша, — чего ты тянешь на них! А я ведь просто так, должна же у меня быть хоть одна плохая черта.