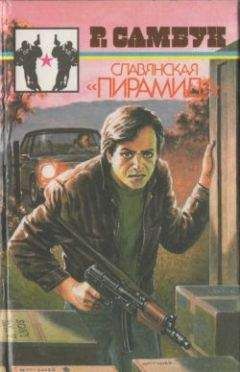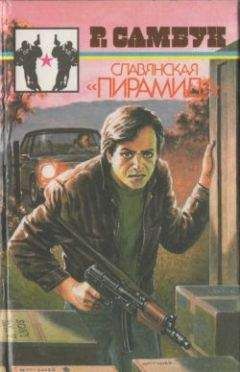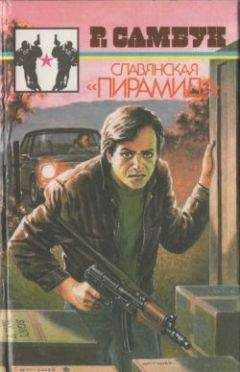Феликс убил Лару - Липскеров Дмитрий Михайлович
– Браво, мой дорогой! Твоя речь изумительна по накалу страсти!
– Очаровательно, – поддержала его жена. – Вы, милый мой, были так сейчас похожи на Троцкого – просто копия! И Стасика Мовшовича напомнили, когда он за БАМ ратовал в колхозе, а потом поскользнулся и в выгребную яму упал. С головой!
Мовшович смутился:
– Зачем это сейчас, Белла?
– Ведь было?.. И никто тебе, кроме меня, руки не протянул, потому что ты был евреем. Так бы ты в говнищах и потоп Стасиком!
– Вот от тебя в Нинке столько грязи. Вот ведь рты у вас немытые!
– А сейчас ты целый Беньямин!
– А ну вас! – громко бросил приборы о тарелку Мовшович и ушел в свой кабинет.
– Несерьезность отношения к моему предприятию доказывает правильность направленности моих рассуждений и принципов! – дополнил Фельдман, пытаясь незаметно сплюнуть часть яичной скорлупы, застрявшей между губой и зубами.
– Замечательное начинание! – поддерживала теща. – И продолжайте, мой дорогой! Мы все еще будем вами гордиться. А как детям нужен отец-герой!
– Детям нужен отец! – заметила Рахиль. – Мертвый герой – пусть память о нем будет благословенна – козырь для любого патриотизма!
«Обалдел» – это не то слово и состояние, в которое вошел Фельдман. Супруга, много лет молчавшая, говорящая почти шепотом, признающая только мужнино мнение, без всяких там комментариев и поправок, вдруг выразилась в полный голос, с крепкой позицией о надобности героя в современном обществе. И смотрели ее печальные глаза богини не в пол, как ранее, а вперед. Так когда-то глядел на жизнь ее отец, Стасик Мовшович, комсомольский агитатор, верящий в социализм.
А Мовшович, так и не добравшийся до своего кабинета, подслушивающий на лестнице дискуссию, вдруг неожиданно для всех скатился с нее и, тряся пальцем, принялся обвинять зятя в насаждении в его доме коммунистической пропаганды! Поэтому Абрам когда-то и уговорил Мовшовича отдать дочь Нинку за этого выскочку американского.
– Он тоже коммунист? – поинтересовалась супруга.
– По крайне мере, сочувствующий! – взревел Мовшович. – И нечего рассуждать в моем доме! Не коммунисты его построили, а я, убежденный… – он вновь потряс пальцем, – сионист!
– Мама, – удивленно констатировала Рахиль, – папа выгоняет нас из дому!
– А что здесь странного? Что из говна Стасика вытащила моя семья – и прямо в Израиль. Из коммунистов в сионисты! А вас из Израиля – в говно колхозное!
Будь при нем пистолет, Мовшович мог бы и застрелиться. Его жена Белла обладала редкой способностью убеждать всех, что изнанка пальто вовсе не изнанка, а самый что ни на есть лицевой габардин. Еще Мовшович подумал о скором приезде неуправляемой Нинки и о том, что от гибели его не спасет даже приход Мессии.
– Пусть едут в свой Бишкек! – внезапно согласился Беньямин. – У них своя семья, и они вольны решать за себя!
– Не так смело! – внесла свои коррективы Белла. – Пусть сначала Абрам отправляется, обустроится на новом месте, подучит киргизский язык, найдёт Иешиву для деток – и Рахиль с потомством тотчас подъедут. Революционер, я вам скажу, дело одиночное, требующее стопроцентной отдачи, без оглядки на семью, чтобы не трястись за нее в страшный час расстрела!..
– Тьфу! – ударил по столу кулаком Мовшович. Его лицо налилось кровью, сосуды в глазах полопались, и он стал похож на быка, который наконец разглядел незащищенное место матадора. – Вы, Белла, дура! – Он всего лишь третий раз так грязно обругал свою жену, и все поняли, что папа сейчас не шутит. Что папа на грани. Папа может проклясть.
– Папочка! – нежно воскликнула Рахиль. – У тебя сердце!..
Белле от ужаса стало нехорошо, она по-советски попросила «срочно валидол». Еще она предупредила, что пожалуется раввину, на что Мовшович пригрозил сожрать раввина вместе с ней и синагогой, а потом пообещал Всевышнему выстроить три новые: одну в Бишкеке для Абрама, другие…
Фельдман по-солдатски, с полным решимости лицом, вышел из-за стола и направился в сторону апартаментов, которые занимала его семья.
– Абраша, ты куда? – прошептала Рахиль, до смерти перепуганная происходящим.
– Я иду собирать вещи, – не оборачиваясь, ответил Абрам Моисеевич. – Я завтра уезжаю в Бишкек. Один!
И Абрам Моисеевич уехал. Взял свой саквояж с луковичными часами и сел на пароход в сторону бывшего СССР.
Добравшись на перекладных до города Бишкека, бывшего Фрунзе, он нашел в поисковике адрес синагоги и прибыл туда, найдя учреждение очень милым, хоть и небогатым. Имелась небольшая община, и пожертвований хватало на все, в том числе и на поддержание малоимущих. Ему даже хотели было вручить две сумки: одну с сухими продуктами, другую с овощами и фруктами. Он категорически отказался и попросил о встрече с местным раввином и ему пошли навстречу, так как он говорил на интеллигентном хибру, а в Бишкеке никто в такой степени языком не владел. Идиш – куда не шло…
Раввин объяснил ему, что двадцать лет положил на общину, что стольких обрезал, постриг волос, отпраздновал бар-мицв и бат-митсв, переженил всех, так что…
– Вы не расстраивайтесь, рав Фельдман! В Киргизии куча городов, где есть евреев понемногу. Откроете синагогу, они подтянутся из разных мест, а вы их приобщите. А у нас хлеб с маслом уже имеется. Скоро сверху рыбки положим.
Фельдман не отчаивался, ткнул наугад пальцем в карту страны – и вышло ему путешествовать в город Кара-Болта. Что он и сделал, переночевав до утреннего поезда в гостевом доме при синагоге. Завтракая, он понимал, что в этом улье достаточно меда, чтобы прокормиться. Прав был раввин, что указал ему путь. Приятный человек. И правильный.
Сев в поезд, он понял, что хочет быть похожим на бишкекского ребе, а также не сомневался, что путь этот тернист и долог, но он его пройдет, и пусть Всевышний считает его дела, как хорошие, так и плохие.
Он поселился в гостинице, в простом номере, без всякой там кровати-кингсайз, стоячий душ имелся, и на письменном столе стояла кофемашина. Но капсул к ней оказалось, так как их почему-то вообще перестали завозить в Бишкек. Так объяснила ему русская горничная, предложив за двадцать долларов банку растворимого кофе.
«Однако», – подумал Фельдман. Но банку с кофейными гранулами купил.
– А сливок бы или молока?
– Этого сколько хотите! – обрадовалась горничная. – Только все молочное у нас козье или овечье.
Фельдмана чуть не вырвало. Он еще в некошерном детстве не переносил в молоке вкус козла, а потому сказал русской, что охотно приобрел бы коровьего молочка… И тут же треснул себя по лбу, вспомнив, что неизвестно где сделанное молоко трефное. Его нельзя принимать. Никакое!.. Давно Абрам не путешествовал туда, где надо всегда помнить о кашруте…
От молока отказались. Были потрачены деньги на перемену белья плюс еще пяток долларов на сваренные вкрутую яйца. Дело окончилось к всеобщему удовольствию, номер убран, время близилось к десяти, и будущий раввин направился в центральный банк города, надеясь отыскать в нем еврея и завязать общение с киргизскими иудеями.
Почему-то в лобби банка все были напряжены, глядели на него как на врага и все как один были в телогрейках, а на коротко стриженных головах – национальные головные уборы – калпаки. Все пили кофе из одинаковых белых чашек с надписью «Café». Наконец появился банковский клерк, узкоглазый, без калпака и телогрейки, в современном костюме и приветливый. Он внимательно оглядел Фельдмана и произнес:
– Шолом!
– Шолом и вам!
– Я наполовину киргиз, наполовину еврей – по маме.
– Отрадно это слышать! – добродушно отозвался Абрам. – Как здоровье семейства?
– Не жалуемся, – заулыбался в ответ клерк. – Так что бы вы хотели от нашего банка?
– Только не обижайтесь, – попросил Фельдман. – Но вы можете решать вопросы свыше ста тысяч долларов?
Все, кто сидел в зале, синхронно обернулись и застыли, переваривая услышанное.
Клерк знал свою клиентуру, приходящую попить на халяву машинного кофе, а заодно и присмотреть себе жирную курицу, чтобы за углом открутить ей башку и изъять наличные. Клерк во всех таких делах был в доле, еврейская мама здесь не играла роли первой скрипки, и молодой человек продолжил задавать вопросы: