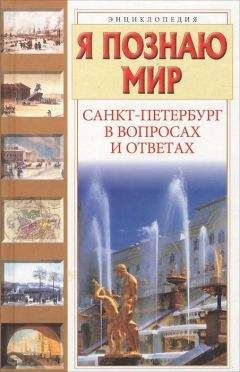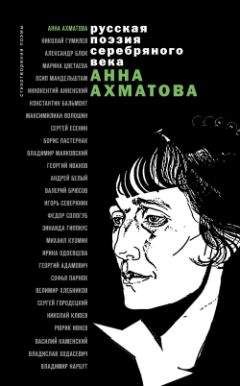Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Да, настоящая правда – неправдоподобна, прав, увы, Достоевский. Она пишет о случившейся любви высокопарно, выспренне, может, на октаву выше, чем это можно вынести сегодня… Нет, кажется, права была Ахматова, когда, прочитав книгу ее воспоминаний, в том числе и эту сцену, коротко сказала: «Ей надо было только промолчать, чтобы остаться женой великого человека».
А Любовь Дмитриевна, вспоминая этот, по сути, адюльтер, назвала его «лучшим», что было в ее жизни. Скоро, очень скоро, уже на гастролях в Тбилиси, она порвет с Давидовским, и, как напишет, порвет «глупо, истерично, беспричинно»…
Сына от этой любви рожала четверо суток. Расплата! Хлороформ, щипцы, температура сорок. Когда-то, еще до свадьбы, «предельным ужасом» казалось ей иметь ребенка. Блок даже успокаивал ее, говорил, что «детей у него не будет». Возможно, потому, вернувшись с гастролей беременной, она бросилась к докторам: аборт казался спасением. Потом обо всем сказала матери Блока. «Саша – тоже что-то вроде нотации: пошлость, гадость, пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий. И я, – пишет Любовь Дмитриевна, – спасовала, я смирилась… С отвращением смотрела я, как уродуется тело, как грубеют маленькие груди, как растягивается кожа живота… Саша очень пил в эту зиму и совершенно не считался с моим состоянием…»
Нет, Блок принял ребенка, это известно. Даже ждал его. «Почему-то помню ночные телефоны Блока из лечебницы, – писала Зинаида Гиппиус. – Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик. Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой… Выбрал имя ему – Дмитрий, в честь Менделеева…» «О чем вы думаете?» – спрашивала его Гиппиус. «Да вот… Как его теперь… Митьку… воспитывать?..» Увы, мальчик умрет через восемь дней. Лицо Блока станет из светлого – «испуганно-изумленным». Сам же Блок писал матери в то время: «Я никогда еще не был… в таком угнетенном состоянии, как эти дни». А тетка поэта прямо скажет про умершего младенца: «Мне жаль его, потому что Любе его мало жаль. Неужели она встряхнется, как кошка, и пойдет дальше по-старому?..» Что ж, встряхнулась и пошла… Правда, с Давидовским умрет в один и тот же год – в 1939-м…
Сцена мстила Любе, но ведь рикошетом – и Блоку. Ведь он за месяц до рождения мальчика, 3 января, на новогоднем вечере у поэта Сологуба, слишком веселился и дурачился, был, что называется, в ударе. И там, у Сологуба, встретил женщину, которая давно уже была в поле его зрения, – Валентину Богуславскую (в замужестве Щеголеву), тоже актрису и тоже из театра Комиссаржевской. Она была замужем за Павлом Елисеевичем Щеголевым, известным пушкинистом, написавшим знаменитую книгу «Дуэль и смерть Пушкина». В то время Щеголев, издатель-редактор прореволюционного журнала «Былое», сидел «за политику» в Крестах. Где писал, кстати, опять-таки книгу о Пушкине. А жену его пригласили к Сологубу – развеяться. И вот неожиданно для обоих – эта встреча.
Приятельница Щеголевой, Надежда Чулкова, писала, что та «была совсем некрасива лицом, но очень женственная и грациозная, имела приятный голос. Когда она волновалась, речь ее была порывистой и почти бессвязной». «Бормотаний твоих жемчуга», – напишет Блок про ее быструю и туманную речь в одном из трех стихотворений, посвященных Щеголевой.
Впервые Щеголева, если ссылаться на ее дневник, увидела Блока в конце апреля 1908 года. Странно – они не могли не видеться в театре Комиссаржевской, где она играла и где Блок еще недавно проводил буквально дни и ночи. Но встретились и остались вдвоем, видимо, действительно в апреле 1908 года.
«Случайно… попала с Блоком на острова, – вспоминала Щеголева. – Блок… смотрел на меня смеющимися глазами и, проводив до дому, вдруг сказал молящим голосом: “Поедемте на острова, очень прошу вас”. Ослепительное утро, Летний сад, весь одетый желто-зеленым пухом, черные упругие стволы деревьев. Я согласилась, – пишет Щеголева. – Этот человек так жадно и глубоко впитывает жизнь, и он так не похож на других. С ним страшно, он слишком притягивает к себе. И жизнь его такая странная. Прелестная жена – и вдруг Волохова, и он точно сомнамбула или лунатик на краю крыши… Эта поездка на острова и потом в Ботанический сад и поведение Блока. Зачем я ему? Он так жадно и страстно меня целовал, точно голодный… Я боролась, я сердилась, возмущалась и смеялась, в конце концов. Что спросить с этого умного очаровательного человека. Только бы мне не влюбиться, вот была бы штука… Но все-таки все это утро на взморье, голубой шелк моря, лодка и мягкая рука на веслах. И ему и мне было очень весело…»
Она почти сразу напишет ему письмо, черновик его сохранится. «Моя любовь… не требует жертв. Она сама вся жертва, вся восторг, вся приношение. Но именно потому-то я и не отдаю тебе мое тело, мое земное прекрасное тело, что люблю тебя высшей, не знающей конца, не видящей начала вечной любовью. Смотреть на тебя… видеть тебя… умереть за тебя. Поцелуи твои, ласки твои горячи – это радость неизъяснимая, прекрасный цветок… Знать, что ты любишь другую, – страшно режущим терзанием разрывается сердце, но все же любить тебя…»
Блок на страстное это «бормотание» ответит коротко: «Простите меня, ради бога, многоуважаемая Валентина Андреевна. Если бы Вы знали, как я НЕ МОГУ сейчас, главное – внутренне не могу: так сложно и важно на душе. Сегодня получил Ваше письмо и думал; но – не могу, право, поверьте. И еще – я, должно быть, уеду на той неделе в деревню… Целую Ваши руки…»
И вот теперь – этот новогодний маскарад в доме у Сологуба (Гродненский пер., 11). Блок дурачился, испытывая молодую силу, шутливо, но прямо-таки со страстью боролся с приглашенными мужчинами, в том числе с драматургом Дымовым, который уложил его, увы, на обе лопатки. Все были в маскарадных костюмах. А пол в квартире был сплошь усыпан пестрыми конфетти. Цветной серпантин во время ужина так и летал с одного конца стола к другому, особенно часто обвивая голову Блока.
Щеголева приехала без маскарадного костюма, ее тут же, накинув на голову длинную белую вуаль, нарядили грузинкой. И почти сразу перед ней, как из-под земли, выросли три черных домино. Блока она узнала по рукам, он снял капюшон. «Запотевшее, красное от маски и жары лицо, – вспоминала Щеголева, – чуть прилипшие на лбу завитки волос и милая улыбка. Это был Блок. Атмосфера вечера захватила его, он был очень весел, дурил, – вспоминала она. – Надевал мою фату и вдруг исчез…»
Она пишет, что для нее с его исчезновением все вокруг сразу потускнело. И вдруг, в кабинете Сологуба, она увидела его сидящим за письменным столом и что-то быстро писавшим. Щеголева повернулась, чтобы выйти и не мешать, но услышала тихий голос: «Валентина Андреевна…» Обернулась. Блок протягивал ей сложенный в четверть листок бумаги. Это были стихи о той поездке в лодке по заливу. Этот листок, который она жадно спрятала за корсет, превратил для нее суетливый вечер в настоящий праздник. Когда всех позвали ужинать, поэт сел рядом с ней.