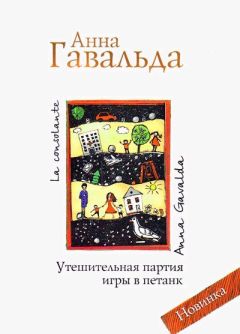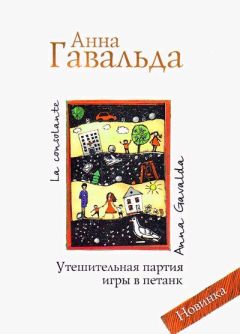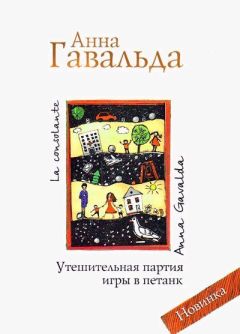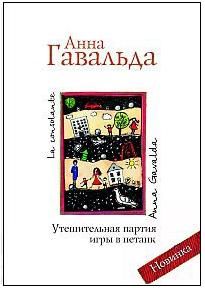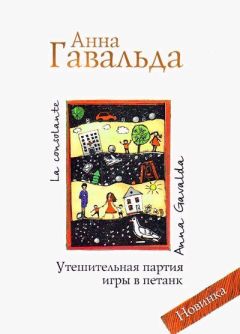Анна Гавальда - Утешительная партия игры в петанк
Тут она сняла очки и долго терла переносицу, потом заговорила снова:
— Потому что… этот гавнюк, прости меня, я знаю, что он твой друг, но другого слова не найти…
— Нет. Он не…
— Что, прости?
— Ничего. Продолжайте, я вас слушаю.
— Он от нее отказался. Когда он восстановился настолько, чтобы произнести что-либо вразумительное, он преспокойно ей объявил, что для продолжения того лечения, которое он получил в «группе поддержки», он не должен больше с ней видеться. Он очень спокойно все это сказал… Понимаешь, мол, мама, это для моего же блага, но тебе не следует больше быть мне мамой. Поцеловал ее, чего не делал много лет, и вернулся к своим, в красивый парк за высокой оградой…
Тогда она впервые в жизни взяла больничный… На четыре дня, как сейчас помню… Через четыре дня вышла на работу и попросила перевести ее в ночную смену. Не знаю, чем она это мотивировала, но знаю другое: проще пить, когда корабль идет тихим ходом… Команда вела себя с ней идеально. До сих пор она была нашим маяком, нашим оплотом, теперь же превратилась в нашу главную больную. Я помню этого чудного старичка, Жана Гиймара, который всю жизнь занимался проблемами рассеянного склероза. Он написал ей замечательное письмо, очень подробное, вспомнил всех пациентов, с которыми они работали вместе, в заключении заверил ее, что если бы ему посчастливилось побольше работать с такими людьми, как она, он бы сумел сделать для больных гораздо больше, и, уйдя на пенсию, чувствовал бы себя счастливее…
Ты как? Может, еще колы?
Шарль вздрогнул:
— Нет, нет, я… спасибо.
— А я вот, прости, налью себе чего-нибудь… Как начинаю бередить все это, у меня прямо сердце заходится. Какая нелепость… Какая чудовищная нелепость… Целая жизнь, понимаешь?
Молчание.
— Нет, вам всем не понять… Больница — это другой мир, те, кто к нему не причастны, не могут понять… Такие, как Анук и я, мы больше времени провели с больными, чем со своими близкими… Эта адски тяжелая жизнь в очень обособленном мире…
Однообразная… Не знаю, как справляются те, у кого нет на это, как раньше говорили, призвания, вроде сегодня это звучит как-то старомодно. Вот все думаю и не понимаю… Просто так этого не вынести… Я даже не о смерти говорю, нет, это не самое сложное… Сложнее веру в жизнь сохранить… Да еще когда работаешь в таких тяжелых отделениях, как не забыть, что жизнь… ну не знаю… что жить это нормальнее, чем умирать. И знаешь, иногда по вечерам, такая предательская усталость наваливается… И руки опускаются, и тогда… Смотри-ка, — пошутила она, — и чего-то я вдруг расфилософствовалась! Ах, как же далеки времена наших конфетных баталий в саду у твоих родителей!
Она встала и пошла на кухню. Он последовал за ней.
Налила себе большой стакан газировки. Шарль прислонился к перилам балкона. Стоял спиной к улице, на тринадцатом этаже, смотрел перед собою в пустоту. Молчал. Ему нездоровилось.
— Конечно, все эти знаки внимания были для нее очень важны, но больше всех ей тогда помог… хотя, помог — не знаю, могу ли я так сказать, потому что все оказалось не так уж просто, некий Поль Дюка. Психолог, работавший с пациентами всех отделений и приходивший несколько раз в неделю по требованию больных.
Добрый он был, должна признаться… И это глупо, конечно, но мне казалось, я прямо-таки чувствовала, что его работа сродни работе уборщиков. Он заходил в палаты, полные миазмов, закрывал дверь, проводил там иногда десять минут, иногда два часа, с нами не разговаривал вообще, даже вопросов не задавал, спасибо еще что здоровался, но когда мы заходили после него… как бы тебе объяснить… в палате менялся свет… Как будто бы он там окно открыл. Одно из тех огромных окон без ручек, всегда закрытых наглухо, по той простой причине, что так уж предрешено…
Однажды вечером, поздно, он зашел в ординаторскую, чего с ним раньше никогда не случалось, кажется, ему понадобился листок бумаги… А она сидела там в темноте с зеркальцем в руке, верно, подкрашивалась.
Простите, сказал он, я зажгу свет? И он ее увидел. И в руке она держала вовсе не карандаш или губную помаду, а скальпель.
Она сделала большой глоток воды.
— Он встал перед ней на колени, обработал ее раны, и не один месяц ходил к ней потом… Он подолгу слушал ее, уверял, что Алексис повел себя абсолютно нормально. И более того, здраво и разумно. И что он вернется, как возвращался раньше. И что она, нет, она не была ему плохой матерью. Никогда. Что он, мол, много работал с наркоманами и те, кого любят, излечиваются легче, чем другие. А уж его-то, видит Бог, еще как любили! Да, — смеялся он, — Бог это видит. Вот если бы его кто так любил! Сыну ее хорошо там, где он сейчас, он все о нем разузнает и ей расскажет, а она должна вести себя как всегда. То есть просто делать то, что делала всегда, и, главное, самое главное, оставаться самой собой, потому что Алексис пойдет теперь своей дорогой, и, возможно, эта дорога уведет его от нее… Ну, на какое-то время… Вы верите мне, Анук? И она поверила и… Ты плохо выглядишь. Что с тобой? Ты весь бледный…
— Наверное, мне надо что-нибудь съесть, но мне… — Он попробовал улыбнуться, — в общем, я… У вас не найдется кусочка хлеба?
— Сильви, — пробормотал он, не переставая жевать.
— Да?
— Вы так хорошо рассказываете… Ее глаза затуманились,
— Это и понятно… После того, как она умерла, я только о ней и думаю… Днем и ночью ко мне беспрестанно возвращаются обрывки воспоминаний… Я плохо сплю, разговариваю сама с собой, задаю ей вопросы, пытаюсь понять… Ведь это она научила меня профессии, с ней связаны все мои профессиональные победы, и именно с ней я как ни с кем хохотала до слез. Она всегда была рядом, когда я нуждалась в ней, всегда находила те самые слова, которые делают людей сильнее… терпимее… Она крестная моей старшей дочери, и когда у моего мужа обнаружили рак, она, как всегда, оказалась на высоте… Со мной, с ним, с детьми…
— Он…
— Нет, нет, — просияла она, — он жив! Но ты его не увидишь, он посчитал, что лучше оставить нас одних… Так я продолжаю? Хочешь еще чего-нибудь съесть?
— Нет, нет, я вас… Я тебя слушаю…
— Так вот, она ему поверила, — говорила я, — и тут я увидела, увидела собственными глазами, на что способна любовь. Она распрямилась, перестала пить, похудела, помолодела, горе отпустило ее, ты вот говорил, что от нее горем пахло, а она стала прежней. Прежнее лицо. Те же черты, улыбка, веселые глаза. Ты же помнишь, какая она была, какие фортели выкидывала? Заводная, смешная, сумасшедшая. Как бесстыжая школьница, которая влетела в спальню к мальчишкам и избежала наказания… И красивая, Шарль. Такая красивая…