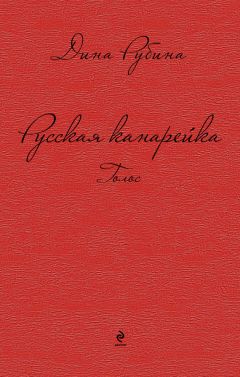Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
— Я поеду с вами! — вдруг сказал он. — Хочу сам все видеть.
— Ну и видь. Сиди в командной машине. Не понимаю — ты же в любом случае получишь этого ублюдка. — И, нахмурившись, уточнил: — Это он кровавые пятерни в окне показывал?
— Он.
Фотография, на которой пьяный от крови Раджаб демонстрировал в окне собравшейся под домом толпе свое красноречивое участие в «разделывании туш» (руки баскетболиста, протянутые в ожидании мяча), была снята шустрым французским журналистом, аккредитованным в Рамалле, и обошла все средства массовой информации, заставив кое-кого из западных политиков обронить свое смущенное и брезгливое «ай-ай-ай», так что уже несколько недель незадачливый журналист отсиживался в каком-то подвале, спасаясь от народного гнева, и все приносил и приносил оттуда испуганные извинения «палестинским борцам за свободу».
Но еще кое в чем Раджаб сыграл не последнюю роль: Леон полагал, что это благодаря ему, связному группировки «Хазит амамит», были выслежены, раскрыты и выкрадены Кунья и Рахман, это он, по сути, выкинул их толпе на растерзание; так что, пока собирались и анализировались технические и агентурные данные, разрабатывалась и планировалась операция по захвату, Леон не спал и рыскал, как голодный волк, учуявший сладостный запах свежатины.
И как голодный волк, подоспел к той минуте, когда ребята вытаскивали добычу из логова. Упитанный молодой телец, в накинутой на голое тело белой рубахе, в наручниках, в повязке на глазах, споткнулся о высокий порог дома и заскулил щенком, потирая босой ступней другую, ушибленную ногу.
И тут Леон потерял себя.
Запрыгнув вслед за солдатами в боевую машину, пробрался в угол, где на скамье сидел пленный, и с волчьей улыбкой спросил:
— Как настроение, приятель?
Тот отвернулся, бормотнув арабское ругательство. Напуган, удовлетворенно подумал Леон, чувствуя, как разливается пьянящее тепло по венам. Еще как напуган!
— Саба-а-а-а-ба…[25] — пробормотал он.
Все прекрасно, повторял он себе, все идет как по маслу, впереди большая работа. Он собирался просить у начальства разрешения на специальные методы допроса — иными словами, уж он постарается, чтобы судьба Куньи и Рахмана, как и участь погибших резервистов, хотя бы в ничтожной мере отозвалась мяснику — и не в тюрьме, где начнется санаторный срок этого борова, а в ходе следствия.
Пока возвращались на базу, Леону казалось, что он совсем успокоился (он потом и на допросах показывал — будто задался целью усугубить свою вину, — что был совершенно спокоен и «ни на минуту не терял контроля над своими действиями»).
Разве что кровавые пятерни в окне и озверело счастливая рожа, случайно вырванная из карнавала смерти французским журналистом, никак не уступали место ни единой другой мысли, ни единому намерению или желанию, подавляя все его естество. Мельком он подумал, что с утра даже воды не пил и совсем не помнит, когда и куда забегал отлить. Видел только пятерни в окне — кровавые медузы; видел, как лежит на дне подвала мертвый Адиль, подвернув под себя детскую ручку; как на веревке волокут по земле тела Куньи и Рахмана, их голые ноги, как макаронины — по земле. И чувствовал, что это не их, а его рвали на части, волокли, топтали, насиловали…
Но и подобные эмоции он давно научился в себе подавлять, обязан был подавлять в силу профессии.
А в какой момент он вдруг ощутил кровавое наводнение в груди — трудно вспомнить. Просто внезапно почувствовал, как в горло из сердца поднимается кровь, захлестывая, затопляя ненужный ему, никчемный здесь голос (господи, как я тут оказался? что я тут делаю?!); ощутил, как отказывают внутренние шлюзы, исправно служившие ему последние годы; как горло наполняется и захлебывается кровью, и все у́же становится щель, через которую можно дышать… Да, он нахлебался и вот-вот закашляется, выблевывая литры чужой крови… Еще не хватало напачкать прямо тут, в машине, на глазах у ребят.
Перебравшись поближе к «джонни», он жадно оглядел сгорбившуюся на скамье фигуру. Сдавить пальцами щитовидный хрящ — и гадина враз обмякнет. И сделать это незаметно: ребята расслабились, многие дремлют — солдат любую минуту ловит. Нет! убивать его и глупо, и преступно: за Раджабом десятки имен, сидят в нем, как в матрешке. Эту матрешку мы и будем развинчивать, спускаясь все глубже, извлекая сведения медленно, верно, азартно, артистично — до самого последнего, самого драгоценного, самого потаенного неразъемного малыша, что прячется даже не здесь, а где-нибудь в Бейруте, Дамаске или Тегеране. Нет, убивать Раджаба нельзя. Так что же? Этот молодчик с торжествующими лапами баскетболиста будет жить дальше, заочно учиться в Открытом университете, трахать на свиданиях жену и плодить себе подобных?
За последние минут двадцать пленный успел немного прийти в себя, уже не дрожал крупной дрожью, хотя непрерывно что-то бормотал себе под нос. Может, уговаривает себя, что самое страшное позади и в тюрьме его ждут почет среди товарищей, приличная жратва, спортзал и прочие увеселения, а при благоприятном раскладе года через три — ну, пять, — как и сотни других, его обменяют на тело очередного растерзанного израильтянина, и он выйдет на свободу. И будет, как прежде, готовить смертников, взрывать и убивать, рвать на куски человечину и бегать с автоматом…
Кровь поднималась, запруживая горло, уже нечем было дышать.
Нет, сказал он себе. Только не это. Только не как прежде…
Адиль лежал, подогнув под себя детскую ручку… и ноги их волочились по земле, как макаронины…
Нет, парень. Вот бегать ты уже не будешь.
— Мад риджлака, Раджаб[26], — мягко проговорил Леон.
Арестованный встрепенулся, повернул голову на голос — такой братский, такой родной.
— Наам?.. риджл?[27]
— Риджл!
Ничего не понимая, тот слегка выдвинул вперед босую правую ногу.
Кровь поднялась к гортани, булькая уже так, что Леон едва мог говорить.
— Баад шуайе[28], — заговорщицким, чуть ли не интимным шепотом приказал он, завороженно глядя на белевшую в темноте ступню. Застыл: змея перед броском. И молниеносно-мягко выхватив винтовку из рук дремлющего рядом солдата, прикладом нанес два страшных удара, дробя кости этой ступни, сладостным воплем выблевывая освобожденную кровь сердца, сливая этот вопль с диким визгом арестованного и с визгом тормозов застопоренной машины.
* * *Из тюрьмы его вытащил Натан.