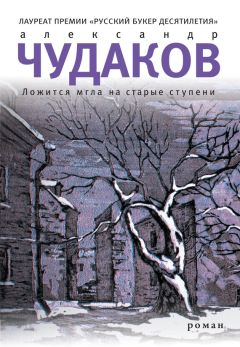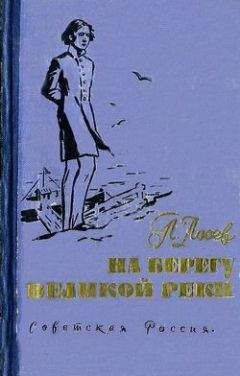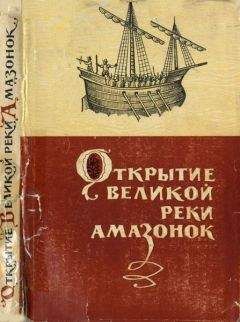Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени
Много — про дороги, точнее — что их не было. Как при отступлении где-то в районе Пинских болот орудия бесследно проваливались в трясину вместе с расчётом; пушки, по его рассказам, почему-то тащили всегда сами, без всякой техники, до тех пор, пока не стали поступать американские тягачи-студебеккеры. Одно время он был командиром батареи «Катюш». Каждая из установок гвардейского реактивного миномёта возила ящик с толом, и он, командир, имел приказ: оказавшись в непосредственной близости от противника и предполагая вероятность попадания установки в руки врага, взорвать её вместе с орудийным расчётом. «Почему вместе?» — «Чтобы не раскрыли врагу секрет нового оружия». — «А они его знали?» — «Нет, конечно. Что мог знать простой боец?» Но именно так, рассказывал дядя, погиб расчёт одной из первых действующих установок «Катюш» вместе со своим командиром капитаном Флёровым. От дяди же Антон в первый раз услышал, что маршала Жукова солдаты не то чтоб не любили, но говорили: «Приехал.
Теперь живым навряд останешься». Потом Кувычко-средний рассказал: когда требовался проход в минных полях для танков, Жуков приказывал по полю пустить пехоту; проход образовывался, техника оставалась в целости. (Через много лет Антон будет писать — и, как почти всё, не допишет — работу о том, что такой социум, такая странная эпоха, как советская, выдвигала и создавала таланты, соответствующие только ей: Марр, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жуков — или лишённые морали, или сама талантливость которых была особой, не соответствующей общечеловеческим меркам.)
Говорил ещё дядя Коля о тех, кто выживал на фронте. Кто не ленился отрыть окоп в полный профиль, сделать лишний накат на землянке. Кто не пил перед боем наркомовские сто грамм — притупляется осторожность. Кто не шарил в Германии по домам. Дядя один раз попробовал — сержант сказал, что рядом в брошенном замке целая комната костюмов, а маркграф, судя по фотографиям на стенах, был мужчина крупный, как вы, товарищ капитан. Действительно, в гардеробной висело костюмов пятьдесят.
Когда дядя Коля стал один примерять, откуда-то сверху, видимо со шкафа, на плечи ему прыгнул здоровенный рыжий немец. Дядю и на этот раз спасли приёмы русского рукопашного боя. Но из Германии он не привёз ничего, кроме двух пар подмёток, которые ему подарил приятель — командир батальонной разведки, сын чебачинского сапожника дяди Дёмы, по всей Германии собиравший для отца кожаный товар.
Перед войной дядя оказался в Саратове, где золота не добывали. Но он быстро переквалифицировался и стал специалистом по нефтегазу. В Саратове первое время снимал комнату в доме у местного немца, которую превратил в пристройку с отдельным входом, построил сарай. От платы отказался и попросил хозяина заниматься с ним немецким языком — через год уже прилично говорил, что ему очень пригодилось ещё через три года.
К старикам из Саратова он приезжал на золотую свадьбу; я хорошо помню это торжество, когда съехались все; дед то и дело говорил: «лет шестьдесят тому назад», дядя Коля: «сорок лет тому назад», тётки: «тридцать лет тому назад».
До нынешнего его приезда надо было навестить двоюродную сестру Иру, она передала, что хотела бы встретиться. Идти не хотелось; к удивленью, о наследственных делах не было сказано ни слова, Ира просто хотела поговорить о своей покойной матери — «ты так хорошо всё помнишь».
Её мать тётю Ларису и своих сестёр Иру и Галю Антон увидел, когда бабка выписала её с рудника после того, как только что разбронировали и отправили на фронт её мужа, в чём виновата была она сама.
Когда выпускник Петербургского горного института (он никогда не говорил: Ленинградского) Василий Илларионович Жихарев приехал на рудник Сумак, у Ларисы, третьей дочери деда, уже был жених, бухгалтер шахтуправления Энгельгардт — собственно, экономист, но работавший не по специальности за ненадобностью таковой на советском золотодобывающем руднике. И всё бы ничего, но он был ссыльный и только начал отбывать свой пятилетний срок. «Это, к сожалению, не партия для нашей семьи», — говорила бабка, намекая на то, что он хотя и дворянин, что вообще-то является несомненным достоинством, но репрессированных и сомнительных в семье и так достаточно. Отец деда, священник, остался за границей, в Литве, и о переписке с ним знали где надо; незадолго до отъезда семьи в харьковской тюрьме умер младший брат деда, Иосиф, тоже священник (его предсмертное письмо, где он прощал своих мучителей, ибо не ведают, что творят, бабка часто перечитывала и всегда плакала); другой брат, о.
Михаил, был расстрелян в восемнадцатом году в Иркутске; судьба третьего, полкового священника в армии Врангеля, была неизвестна (последние сведения о нём исходили от случайно встреченного дедом в Екатеринославе вольноопределяющегося Норова: о.
Георгий осенял крестным знамением роты, входящие в воды Сиваша); младший брат, Павел, не дожидаясь неприятностей, бросил, воспользовавшись женитьбой, священство, переселился в Москву и работал фельдъегерем. Положение его, впрочем, было тоже сомнительно: жена была дочерью тверского вице-губернатора, расстрелянного по спискам в дни красного террора после покушения на Ленина. Дочери начинали в этом плане тоже не очень хорошо: у Галины, первой вышедшей замуж как будто удачно, оказался не в порядке свёкор — отбывал срок не то в Соловках, не то на Беломорканале.
Дядя Коля пригласил новоприбывшего инженера домой. Увидев Ларису, тот уже в конце вечера объявил, что сражён, таких русалочьих глаз и как водоросли волос не видел никогда, и стал бывать у Саввиных ежедневно. Новый претендент, уступая Энгельгардту в происхождении (его отец происходил из казаков и хоть считался дворянином, но бабка в казацкое дворянство не верила), был зато перспективен, блестящ, всех очаровал. В первый же визит объявил: «товарищей» он не любит, в партию же вступил потому, что не хочет давать им форы; деду читал наизусть Пушкина, а тёте Ларисе — Есенина. Играл на гитаре, пел приятным тенором «К чему скрывать, что страсть остыть успела, что стали мы друг другу изменять»; с тётей Ларисой они пели на два голоса «Оля любила цветы. Низко головку наклонит, Милый, смотри, василёк — Твой всё плывёт, а мой тонет»; потом этот романс Антон нашёл у Апухтина — конечно, без кровавого конца, которым заканчивался песенный вариант.
— Это — партия, — говорила бабка. — Дворянич. Конечно, казацкое дворянство… Но зато он состоит в РКП — у нас в семье ещё никого не было нз РКП.
— Ты бы, мама, хоть название запомнила, — нервничала тётя Лариса. — Уже давно они — ВКП(б).
— И совершенно напрасно. РКП гораздо благозвучнее.