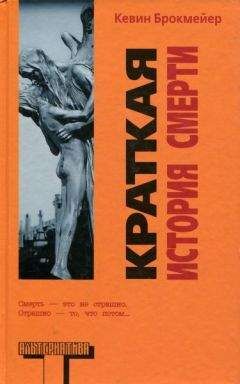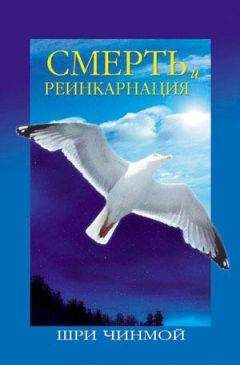Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)
Вот поэтому-то они уже не только меня боятся, а и протестуют, борются со мной. Если они — единый организм, то я — больная голова этого организма. Меня нужно лечить, а если лечить нельзя, надо голову отрезать, чтоб не дала метастазов. Чтобы по всему здоровому телу не начали расти эти мерзкие бородавки-головы, чтобы не разъели они всё остальное здоровое тело морщинами мыслей. Представляешь, как бы выглядели людские животы, поражённые этой болезнью — мыслить?
Я думаю, головы вообще отращивают, чтобы потом состричь. Само государство это знает. Вот увидишь, скоро состоится общегосударственная стрижка голов, слишком много их развелось. Но и государство вовсе не логикой ума придёт к стрижке, а силой самой жизни по здравому её смыслу, ведь и государство существует не по умным юридическим законам, а по законам здравого смысла существования вообще, по данности своего существования. Оно дано, оно есть, ну и живёт себе какое есть, работает без излишеств, чтобы и дальше жить, ровно так, как диктует здравый смысл. И оно же заболевает и может умереть, когда вдруг в работу вмешивается эта болезнь, ум. Потому и оно боится ума. Возьми лучший из примеров, древнейшее государство Китай, надеюсь — оно существует в природе, с его глубочайшей философией и культурой, стоящими на недосягаемой для других высоте. Совсем недавно здравый безумный инстинкт самосохранения заставил его официально объявить своих граждан-так-называемых-интеллектуалов врагами народа номер один. Без разделения оных на профессии и конфессии, всех. Так уж далеко зашла болезнь, что потребовалось радикальное лечение. И народ избил интеллигенцию, как он же избил воробьёв, врагов номер два. Народ попросту изблевал её из себя. Что? Друг мой, если ты по эстетическим соображениям противишься моим высказываниям… то вспомни, что после избиения народ поедал тела носителей ума, пожирал их окровавленные отсечённые члены, вынутые из них через проделанные отверстия, вырванные из их тел дымящиеся внутренности, печень, селезёнку, сердце, мозг! Чтобы, оставленные на свободе, они не дали снова метастазов. Друг мой, вспомни, что пожиратели живы по сей день, они живут на своей очищенной от ума родине, они живут, можно сказать, среди нас! И сегодня они делают другую революцию, экономическую. Что же, эту революцию они делают по уму? Откуда же после той революции его им взять, а?
Ты скажешь, законы революций на то и есть революционные законы, что в мирное время они не работают, они мертвы, и тогда наступает время законов продуманных, выношенных умом. Эх, да мирные твои, умные юридические законы только кажутся живыми и работающими, да и то лишь, когда совпадают с данностью. То есть, когда они дублируют данность, когда они вполне лишни. А в других случаях они только мешают работе. Ведь и бегемот сидит в воде и вечно жуёт не потому, что в республике Чад такая-то конституция, а потому что он вечножвачная водяная корова и есть, ничего не поделаешь, таким он дан, или мы не о бегемоте говорим. Чем может помочь ему самая прогрессивная конституция, произведение самых блестящих умов? Ничем, она может только помешать бегемоту сидеть и жевать, когда власти начнут копать канавы, строить плотины, то есть, силой проводить прогрессивную конституцию в жизнь затоки. Но, к счастью, и сама власть во власти своей собственной данности. И такая конституция рано или поздно отторгается ею посредством всяких поправок к конституции, смягчающих её реформ, радикальных консервативных революций. А если власть сама сделать это не в состоянии, слишком слаба, слишком далеко зашла умная болезнь, то ей помогают здравомыслящие соседи: войною. Ведь и соседские власти есть клетки одного общего организма власти. Все здоровые клетки организма подвластны своей данности — здоровью. И все больные клетки тоже своей — болезни. И согласно своей данности больные клетки должны быть отторжены здоровыми, если весь организм хочет остаться здоровым и жить дальше. А он — хочет. И именно так: дальше. То есть, каким и раньше жил, до болезни.
В такой, пардон, мизансцене по одну сторону пропасти — мы, скажем, с тобой, а по другую — семья Здоймов, в которую входят не только собственно хуторяне, но и их слюнявые ангелы, тёмно-синие, с государственными гербами во лбах, огород и кролики, морковка и капустка, ветер, воды и пламя! И даже дикие птицы с домашними животными под ручку… Кстати, я пришёл к выводу, что животных домашних вовсе нет. Все эти твари созданы искусственно, может быть и в колбах, в рамках опять же здравого смысла, этой меры того же частичного невмешательства в то, что дано от века, подарено навечно. Возьми, хотя бы, курицу… Правда, она есть тварь, созданная по правилам меры, без всяких излишеств, в полном соответствии со здравым смыслом? Вот почему ей вовсе незачем летать, ибо зачем, куда, в суп? И вот почему она всё же обладает крыльями: чтобы повар мог безошибочно отличить её от свиньи.
Есть от чего прийти в отчаяние! Чем глубже мой ум копает, забираясь в засекреченную область жития, чем тоньше он работает, чем ближе он к его сути, к его белкам и желткам, тем глубже противоречие между всё усложняющимся путём деления, всё более дифференцированным и утоньшающимся болезненным умом — и по-прежнему цельным, полнотелым, полносердечным и безумным здравым житием. Одна только мысль, нет-нет, предчувствие мысли утешает меня: а, может быть, всё же верно, что на достаточно тонком уровне работы они, так называемые больной ум и здравое сердце, неотличимы друг от друга? И тогда — надо продолжать мою работу в ту же сторону, стремясь к этому уровню, прикладывая всё больше усилий? Но человеческий ли это уровень?
Теперь о том, что во мне есть человеческого… Что там осталось человеческого. О трусости. Мне всегда не хватало смелости. Я всегда пытался сочувствовать всем им. Назовём их всех Здоймами. А теперь решил: а чего? Я разрешил себе сегодня то, чего раньше стыдился. Я разрешил себе ясное чувство по отношению к ним. Не сочувствие, а самостоятельное чувство. Не презрение, это глупо. Не ненависть, она бумерангом бьёт ненавистника. Не любовь, это невозможно… А отвращение. Почему именно это? Потому что я именно отвращён от них. То есть, я этого не делал сам.
Но и они отвращены от меня, и тоже не несут вины за это. Это дано. И всё тут. Процесс отвращения происходит непрерывно, вечно. Мне легко наблюдать за ним, нет, не за собой изнутри, это уже явно обнаружившая свою хрупкость, непоправимо разъеденная анализами область, а за активно стремящимся к цельности, к простоте, и делающим большие успехи на этом поприще, посторонним объектом: у меня под рукой есть Бурлюк. Он при мне всегда, и ему трудно ускользнуть от наблюдения. Чувство, с которым он сегодня относится ко мне, этот бывший приятель, есть именно отвращение. Наблюдая за приближающимся к совершенству простоты Бурлюком, я лучше понимаю себя, чем при помощи размышлений, этого сплетения внутренних фабул. Я осматриваю моего теперешнего неприятеля, кручу его в пальцах, как чуждый мне плод, как чернослив… Стараюсь не повредить при осмотре. Однако, ах! Он, оказывается, перезрел, лопнул в моих бережных пальцах, обнажились его внутренности, и хлынули наружу страшные нутряные запахи, и потёк горько-сладкий его гнойный сок. Как тут не чувствовать отвращения, как не испытывать его нам обоим? Ну, а что же я понял, разрешив и себе его испытывать? Что нашёл я для себя полезного в этом наблюдении и в этом чувстве? Страшно вымолвить: теперь нельзя с уверенностью предположить, что я есть.
Но зато теперь меня нельзя застать врасплох. Ибо заставать, собственно, некого.
Вообще-то я подумываю съехать отседова. Хотя б на время. А потом поразмыслить: не похерить ли мне затею с дачкой насовсем. Вчера, проводя очередное наблюдение за Бурлюком, я и спросил его, не захочет ли он эту дачку откупить. Сделать это очень просто, я не возьму с него больше, чем дал сам, а формальностей никаких: дачка и так записана на его имя.
— Пожалуй, я съезжу на недельку к отцу в Полтаву, — так начал я.
Он ещё не полный идиот, сразу понял, куда я гну. Я на то и рассчитывал. Но я забыл рассчитать силу его отвращения ко мне.
— Сейчас, в такое время! — Он буквально вскинулся. — И это после того, как…
— Время обычное для отпусков, — сказал я подчёркнуто холодно, чтобы остудить его, если уж устыдить невозможно. Начиналась сцена замечательно пошлая, подлинно китчевая, сцена искусственной ревности. — Конец лета.
Кажется, мне удалось частично исполнить моё намерение… Бурлюк вроде бы приуспокоился и смог членораздельно молвить:
— Это невозможно. Уехать тебе отсюда уже невозможно: поздно.
Вот пожалуйста, такова ценность членораздельной речи, этого аттрибута ума: абсолютно всё ясно, а не понятно ничего. И такой бред я должен выслушивать, когда причина-то разговора…
(Дата, подпись отс.)26. Е. А. СЕВЕРЦЕВОЙ В МОСКВУ.
Ошибкой с моей стороны было принимать тебя за существо, почти подобное себе. И надеяться на дальнейшее уподобление. Ладно бы — вы с Сашкой читали друг другу мои интимные письма. Но вы смеялись над ними! Только близкие подруги и друзья могут быть так пошлы. Отныне наши отношения прекращены. Уговоры бесполезны.