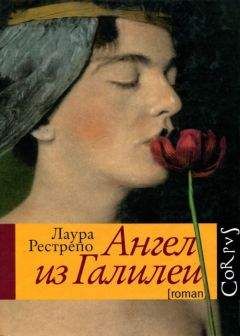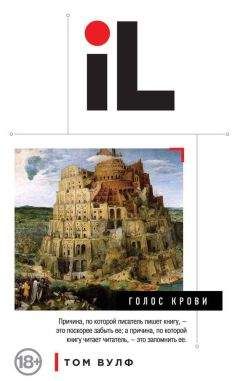Лаура Рестрепо - Леопард на солнце
В три пополудни он принимается за третью бутылку, сидя у дверей своего дома и глядя на полуобнаженные тела проходящих мимо танцоров и королевок – они с ног до головы черные, вымазанные пахучей смесью толченого угля и свиного жира, которая блестит под бешеным солнцем, а струящийся пот оставляет на ней дорожки.
– Разве телохранители не следили за тем, чтобы толпа не проходила перед домом?
– Это уже никого не волновало. Кудря, Симон Пуля и остальные забыли на время о войне и пользовались случаем развлечься, смешавшись с толпой, скрываясь под личинами кающихся грешников в надвинутых капюшонах. Самого Нандо, похоже, также ничто не заботило. Со смертью Мани Монсальве война для него окончилась, а с ней, бесспорно, и сама жизнь, потому что в конечном счете ненависть всегда была его самой большой любовью.
– И он не насладился триумфом?
– Нет. Окончательная победа над его извечным врагом не оставила Нандо ничего, кроме незначительного соленого послевкусия.
По-детски он глядит, как проходит мимо кумбьямба,[69] прося огонька, и зачарованно слушает безумные выкрики маленьких флейт и марак. Нетрезвым взглядом он провожает похожую на сон процессию радостной фауны – вот Дядюшка Кролик, вот Старая Ослица, вот Человек-Кайман – они швыряются мукой и пляшут, как одержимые, – и тут, в одиночестве, в отсутствие охраны, внезапно постаревший, он совершает немыслимое чудачество: у него вырывается чуть заметный счастливый вздох.
Катится мимо веселье – оно никогда не ждет отстающих – а Нандо так и торчит на приколе у дверей своего дома, словно предвидя появление почетного гостя.
Сверкание блесток привлекает внимание черных стекол «Рэй-Бэн». Это блестят золоченые носилки, чьи наглухо задвинутые занавески скрывают обитателя. Носилки несут на плечах две пары Малых Чертей и сопровождает группа бедных музыкантов – головы у них седые от муки после каранавальной битвы, разразившейся в Городе. Когда носилки оказываются перед домом Барраганов, бахромчатые занавески вкрадчиво раздвигаются, и популярная королевка, восседающая на портативном троне и коронованная пышней, чем Елизавета Английская, являет Нандо свою пепсодентовую улыбку – очаровательница приближается и склоняется над ним: трепещут накладные ресницы, каскадом ниспадают жесткие от лака локоны. Нандо, полуприкрыв глаза, ждет, что позлащенное видение подарит ему поцелуй любви или шепнет что-нибудь кокетливо-тайное, но плутовка монархиня выхватывает горсть муки и швыряет ему в лицо. Он не уворачивается: покорно принимает этот душ с благодарным и дурашливым выражением пьяного пентюха, смирившись со своей внезапной дряхлостью.
– Так он там и сидел с лицом, вымазанным белым?
– Так и сидел, весь в муке, точно лепешка обвалянная, мозгов у него ведь не хватило вспомнить ни о каком предсказании.
– Он и не подумал о предсказании Роберты Караколы?
– И ничуть даже. Он просто не заметил ничего, словно все перемололось и той мукой стало.
Пестрый горланящий ком карнавала катится к центру города, оставляя позади квартал, затопленный потоком бумажного сора и отбросов. Отставший от ватаги Карлик Простофиля, осоловев под своей картонной мордой, садится рядом с Нандо и просит у него глоток рома. Нандо ощущает, точно утечку газа, горький душок, идущий из его спрятанного рта, и заглянув в прорези маски, ловит ускользающий и желчный взгляд выпученных от жары и пива глаз.
Карлик удаляется зигзагами вниз по улице, а Нандо остается среди куч растоптанных фестонов и конфетти, погруженный в себя, с головой, переполненной вареным медом беспорядочных, нескладных и бесцветных мыслей.
По улице спускается, танцуя, одинокая Смерть.[70] Смерть эта – не из внушительных, ни властной осанки, ни роскошного карнавального костюма – примитивный, кое-как намалеванный белым на черной ткани, жалкий скелет, деревянная маска-череп, старая простыня вместо плаща и большая обглоданная кость какого-то животного в руках. Люди прячутся от нее, запираются в домах, чтобы она шла себе мимо, подглядывают за ней сквозь приоткрытые окна и толкуют, что никогда не видали такой ничтожной и гадкой смертишки: мерзавка и предательница безо всякого величия, слишком похожая на настоящую смерть. Она овладевает пустынной улицей и наносит костью удары в пустоту. Она молотит воздух с ожесточением, но слабо и бестолково.
– А она заметила Нандо, – как он там сидел, скорчившись, на ступеньке?
– Нет, она его не видела, или сделала вид, что не видит, и стала насвистывать, очень фальшиво, иностранную песенку. Нандо, напротив, посмотрел на нее в упор, взглядом знатока. Он столько раз встречался со смертью, что тотчас мог отличить настоящую от поддельных. «На эту и глядеть не стоит», – подумал он, и дал ей пройти.
Внизу, на уровне земли, грохочет эхо древних африканских барабанов, зовущих рабов к восстанию. Вверху, на высотах, вечереющее небо, кричащее и тщеславное, накладывает макияж из красных и желтых лучей и украшается вульгарной бижутерией отблесков. Нандо Барраган расстегнул свою гаванскую рубахуи все сидит, с обнаженной грудью, на той же ступеньке: безразличный к хвастливому щегольству неба, безучастный к собственной судьбе, с онемевшими ногами, пресыщенный алкоголем. Приходит ночь, укрывательница и соучастница, и набрасывает на него одну-две фиолетовые тени. Нандо кутается в них, сливается с темнотой, превращается в недвижный тюк, невидимый, без имени и без примет.
– Значит, Нандо был невидим, когда орава коварных Монсальве спустилась по улице?
На первый взгляд темнота непроглядна. В следующиймомент, напрягая зрение, можно различить его белое, как большой свежий сыр, лицо, наивное и нелепое под слоем муки, грезящее радостями, что достались другим, и до одури ошарашенное смутной, едва различимой вестью, которую тщится воспринять его нетрезвое сердце: ошеломляющим намеком, что жизнь могла быть лучше.
– И даже огонька его сигареты не было видно?
– Да, огонек был виден. В темноте отчетливо светился срез сигареты, красный и изобличающий, словно миниатюрная неоновая вывеска, которая, загораясь и потухая, сообщала: «Здесь я, здесь я, здесь».
– А в какое время Растрепы[71] спустились по улице Нандо Баррагана?
– Не вовремя, в час, когда остальные ватаги ряженых ушли уже далеко и хоронили карнавал, отплясывая последние кумбьи на излете веселья. В этих Растрепах что-то было не так, хотя их костюмы выглядели традиционно: маски обезьян-самцов, поддельные женские фигуры. Но они не плясали и не веселились, они явно шли по делу. Единственный, кому они не показались подозрительными, был сам Нандо, он ничего не почувствовал и тогда, когда они окружили его и вонзили в него ножи, – наверно, потому, что уже был мертв в этот момент.
– Что вы хотите сказать?
– По заключению судебного врача, производившего вскрытие, Нандо Барраган был мертв с рассвета.
– Так, значит, эта жестокая тоска, которую весь день видели на его лице, была смертью…
– Это была смерть, и никто не сумел признать ее. То, что произошло потом, в ту ночь, была насмешка и профанация. Случилось вот что: фальшивые Растрепы не удовольствовались тем, что убили его, а вдобавок поволокли труп по улицам квартала, так сказать, в назидание и торжествуя победу. Народ сбегался поглазеть на него: его хватали руками, рвали с него одежду и удостоверялись, что это он. Ни у кого не осталось сомнений: это был совершенно точно он, и очевидность его смерти была тяжелой и нагой, как сам труп.
– Кто-нибудь посочувствовал покойному?
– С ним не были солидарны, и, пожалуй, и не жалели его. Если кто ему и посочувствовал, то предпочел промолчать, чтобы не перечить распаленным соседям, наконец-то вкушавшим сладость мести. Коллективной мести, подсознательно задуманной в течение всех тех ночей, когда нам приходилось сидеть взаперти по домам, за замками и засовами, с разбуженными и перепуганными детьми, в то время как снаружи, на улице, Барраганы давали жару, оглашая окрестности грохотом перестрелок. Поэтому час смерти стал и часом расплаты и сработал закон «око за око». Страх, который он внушал нам при жизни, сменил знак и обернулся агрессией в пропорциональном количестве: самые покорные прежде глумились теперь больше всех. Мы хотели бы вырвать у него по волоску за каждый испуг, что он заставил нас пережить; по зубу за каждую тревогу; за каждого мертвеца – по пальцу; оба глаза за пролитую кровь; оторвать ему голову за утраченный нами покой; вырвать внутренности за весь тот срам, какого мы по его вине наглотались. Мы хотели бы лишить его жизни, которой у него уже не было, в уплату за обгаженное будущее, оставшееся нам от него в наследство, и мы отрекались от него навеки, потому что из-за него печать смерти оттиснулась на наших лицах.
– Так и не нашлось никого, кто бы его защитил?
– Наоборот, еще на нем и нажились. Некто, одетый Волшебником Мандрейком,[72] увидел Каравакский крест, сорвал его одним махом вместе с цепью, да и увел. Золотой «Ролекс» с сорока двумя брильянтами уцелел, если это можно так назвать, потому что женщины Барраган выставили его на продажу, когда Нандо лежал в больнице со вскрытой грудью. Победителем аукциона стал Элиас Мансо, тот самый человек, что на свадьбе выказал расположение съесть дерьмо, только бы заполучить эти часы.