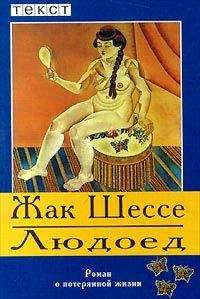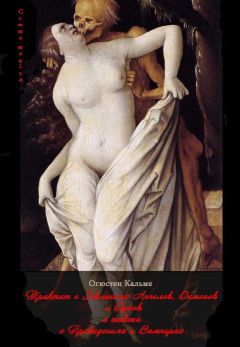Мордехай Рихлер - Всадник с улицы Сент-Урбан
Особенно забавляли Гарри левые политики — несгибаемые герои, в уюте и прохладе жирующие за крепкими заборами Хэмпстеда, энтузиасты сбора подписей под протестными письмами в «Таймс» против очередной позорной выходки Дяди Сэма. Те, что демонстративно отказываются держать акции концерна «Доу-кемикл», в телеинтервью бросают вызов «истеблишменту», а личного шофера непременно поощряют к тому, чтобы тот запросто обращался к хозяину по имени. И все же… все же и им необходимо заступничество Отца Хоффмана перед Всевышним, ибо зачем платить лишние налоги или терпеть от неуемной алчности использованных жен?
— Должен сказать, — все с тем же энтузиазмом продолжает Гарри, — я с нетерпением жду, когда ваша новая картина…
— Что ж, очень приятно слышать, мистер…?
— Штейн.
— Да. А скажите, Штейн, вы бы хотели попасть на премьеру?
— О-о-о-о!
И вот уже у него в руках два билета на первое представление ее последнего шедевра, хотя и во втором ряду галерки, где сидят электрики и рабочие сцены с женами, старыми коровами в дешевых побрякушках; эти приходят раньше всех и покидают фойе последними, еще и у входа толкутся, вытягивают сморщенные шеи, охают и ахают при виде знаменитостей, когда те вылезают из огромных черных автомобилей — мужчины в строгих костюмах, а впереди них длинноногими цаплями выступают старлетки, пытающиеся друг дружку перещеголять открытостью декольте; отгороженный канатами, зачарованный и ослепленный плебс эти сучки приветствуют как бы неловким, девчоночьим помахиванием ладошки и тут же застывают — сиськи вперед, — чтобы их как следует запечатлели настырные фотографы из «Мейл» и «Экспресс». Такими зрелищами Гарри любил угощать одну из натурщиц Академии изобразительных искусств, а стоило той в столь изысканном обществе чуть разомлеть, тут же ее с небес на землю — бряк:
— Ты особо-то не восторгайся, дорогая. Они такие же поблядушки, как и ты.
В своей душной ячейке, согреваемый лишь слабеньким рефлектором да пламенеющей ненавистью, Гарри был уполномочен копаться в счетах клиента, становясь как бы свидетелем всех его кутежей за истекший год и суммируя расходы, — там что-то припишет, здесь подотрет и подделает, причем каждый ресторанный счет из «Мирабели» или «Амбассадора» сплошь и рядом оказывался больше его недельного заработка. Такой вот незаменимый работник. Любимый послушник Отца Хоффмана…
Однако с некоторых пор над когда-то благословенным шпилем бухгалтерского заведения Оскара Хоффмана собрались зловещие тучи. Снисходящий до них все чаще ангел из налогового управления изучил жертвы, приносимые ими на алтарь, и счел таковые недостаточно благовонными, поскольку новый министр оказался ревнителем и никаких налоговых убежищ пред лицом своим не терпел. И если прежде через святилище Отца Хоффмана легендарные небожители проходили радостные и осиянные благодатью (ибо его молитвы всегда бывали услышаны), то теперь некоторые из них вырывались оттуда раскрасневшиеся и даже в слезах; кое-кто повышал голос, слышались угрозы, и они ретировались явно в страхе Божием и предвидении грядущего суда.
На Отце Хоффмане лица не было. Он тряс головой, дергал себя за волосы. А дождавшись полдня, призвал любимого белого негра преломить с ним за рабочим столом хлеб с творожком и йогурт. Сидели, листали гроссбухи. Сверились и с законами, когда нужные книги им были доставлены.
— В наших рядах змеюка, Гарри. Так что ты — того… Поглядывай, ладно?
И наступили времена тревоги: Отец Хоффман стал все чаще останавливаться у автомата с газировкой, обозревать паству, всматриваясь в каждого и пересчитывая про себя дары, которыми осыпал их — займы и талоны на обед, премии и оплаченные отпуска, пенсионные отчисления и яства на ежегодной корпоративной пирушке; стоял и мучился, пытаясь разгадать, кто от него отрекся более чем трижды. Который — Искариот?
Однажды Гарри, не предупредив Хоффмана, остался в обеденный перерыв на рабочем месте, а выйдя, обнаружил начальника за странным занятием — тот шастал там и сям, склонялся над мусорными корзинами, шуровал в портфелях и рылся в ящиках столов.
— Гарри, люди приходят к нам с самым сокровенным. Нам доверяют. Но где-то среди нас засел стукач, змея подколодная, крыса, ублюдок, каких свет не видывал, и, когда я найду его, я ему кости переломаю.
Разделавшись на сегодня с работой, фотограф-любитель Гарри Штейн отправился в Сохо, где пошел по книжным лавкам, не опускаясь на сей раз до разглядывания упакованных в целлофан журналов, прицепленных к стенду бульдожьими прищепками, и на отсмотр стриптизных роликов времени не тратя, в каждом магазинчике сразу приступал к главному — кивал, ему кивали и приглашали в заднюю комнатку, где давали рыться в коробках на низеньком столике. Связанные. В необычайных позах. В резиновых одеяниях. Порка. Потом, когда до занятий оставалось еще около часа, прокинул стаканчик в «Йоркминстере», после чего, для смеху притворившись скромным дурачком, зашел в «Тратторию Терраццу» и попросил надменную девицу за стойкой оформить заказ стола на восемь персон с девяти вечера.
— Невозможно, — спесиво обронила та, на что Гарри, озадаченный донельзя, вынул листок с записью и, заикаясь, уточнил, действительно ли это «Т-т-траттория Террацца».
— Да, конечно.
— Меня прислал мистер Шон Коннери[217]. Я его шофер.
— Ах вот как… Ну, тогда…
Все еще притворяясь, будто читает по бумажке и нарочно уродуя французский, он добавил, что понадобятся четыре бутылки «Шато Марго», которые надо открыть в восемь сорок пять, чтобы подышали, и gateau — ну да, ну да, торт с тридцатью восемью свечками. Вас это не очень затруднит?
Затем Гарри спокойно огляделся в поисках будки с работающим телефоном, вытащил маленькую черненькую книжечку и нашел там ни в какие справочники не внесенный номер кинозвезды, которая заставила его нынче утром бегать под дождем…
— Это ты, душечка?
…за двумя билетами в театр, пока она, скрестив бритые ноги, ждала аудиенции у Отца Хоффмана, как ждут, чтобы предстать пред очи Его Святейшества Папы.
— Здравствуй, милашка!
— Рада вновь слышать ваш голос. — Ответ проникнут холодом, но и страхом тоже. — Только, видите ли, мой телефон теперь прослушивает полиция.
— Ну, так я сразу тогда скажу, зачем звоню. Как ты насчет того, чтобы мне прямо сейчас заскочить к тебе и как следует отлизать. То есть так, как тебе еще не лизали. До кости!
— Я специально не вешаю трубку. А вы продолжайте. Каждая ваша мерзость прослушивается.
— Ну, в смысле, если тебе уже можно. После аборта. Потому что мне совсем не улыбается выплевывать нитки от швов! — С тем он, довольно усмехаясь, и шваркнул трубку.
Время-то вышло: пора на курсы, так что Гарри, подхватив сумку с фотографическим снаряжением, устремился в учебную студию, располагавшуюся на первом этаже в здании Академии изобразительных искусств, коей он был давнишним членом-корреспондентом.
7Сэмми.
Джейк предвкушал, как, когда врач провозгласит Нэнси несомненно беременной — причислит ее, так сказать, к лику, — она сразу станет неземной, похоть будет бежать ее, а он, внимательный, заботливый, чтобы не сказать самозабвенный…
«Не бери в голову, дорогая. Все как-нибудь само образуется… и в свой срок выскочит!»
…выкажет всю огромность своей любви, окружив жену нежностью взамен страсти, сделав ее скорее объектом обожания, нежели сосудом греха.
Черта с два!
Вместо того чтобы наполнить Нэнси святостью материнства, вспухающая ее утроба вдруг пробудила в ней распутницу. Так что подвижка пошла не в сторону Пречистой Девы, а в направлении верховной жрицы Храма Сладчайших Отверстий. Сексуальной акробаткой, вот кем она стала! И невзирая на свое положение, даже когда каменно-твердые груди начинали уже источать сладковатую субстанцию (отчего он сделался еще более пылким любовником), она, всецело предаваясь наслаждению, тянулась к нему каждую ночь. Шаловливыми пальчиками. Грудями, от прикосновения к которым все вставало. Языком, пробуждавшим его, уже полумертвого, к новой жизни. И ошалелый Джейк, возбужденный до всяческого небрежения состоянием зародыша, доводил ее до кульминации, до взаимного взмывания и парения, а о том существе, что плавает у нее внутри, они вспоминали после.
Сыну-то каково! Хорошенькая инициация, думал Джейк и, закурив, осведомлялся, как она, в порядке ли, не был ли он грубоват. Ничего себе «грубоват»: долбил бедненького своим тараном, как спятивший козлище. И тут же в воображении возникала мучительно-наглядная картина: его мальчик, его кадишл[218], рождается с дыркой в черепе, на всю жизнь изуродованный вмятиной от головки отцовского члена. Этакая укоризна пополам с уликой. В другом кошмаре он наклоняется лизнуть ее нижние губки, дразнит их, покусывает, и вдруг… здрасьте пожалуйста, оттуда нос торчит! Привет-привет! Или высовывается маленькая, несказанно нежная ручка, да как ткнет ему пальчиком в глаз. Привет-привет! Или отходят воды, и Джейк ими к чертовой матери захлебывается. А ведь ты заслужил такой конец, сатир несчастный! Или вот: дрожа и сотрясаясь в судорогах оргазма, она и впрямь выталкивает из себя младенца, выбрызгивает его через всю комнату в клочьях последа и потоках кровищи. А мне тогда как быть? — задумывался он. Ведь я даже не знаю, как перевязывают пуповину. А упаду в обморок — она останется без помощи!