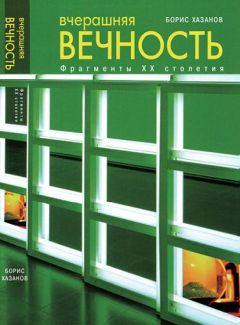Борис Хазанов - Вчерашняя вечность. Фрагменты XX столетия
Что он имел в виду, ссылку?
«Долго не продлится. А вот эмигрировать не стоит. Немного терпения. Тут ведь дело такое: скажем прямо, пахнет керосином».
Он барабанил пальцами по столу.
«М-м?»
Подследственный молчал.
«Керосинчиком, керосинчиком пахнет. Эксперимент не удался. Не вышло, прямо скажем. Сидим все, пардон, в жопе. Нужно что-то предпринимать. А для этого, как вы понимаете, нужна крепкая рука, нужны смелые, ответственные люди. Надо выволакивать страну из дерьма... Вас, конечно, удивляет такая откровенность. Но ведь это почти что, можно сказать, и не тайна. Можете настучать на меня, я не возражаю. Но уж тогда вместе сядем, хе-хе!»
Офицер встал, прошёлся по тесной комнатке, и, как всегда, невозможно было понять, лжёт он, как все они, — пудрит мозги, ломает дурака — или всё это говорится всерьёз.
«Тут такие дела готовятся, а вы собрались драпать... (Писатель сделал протестующий жест, человек остановил его). Ну, пять лет, ну, восемь от силы — сколько это ещё может продолжаться? А потом крах. Да ещё какой. Страна у нас огромная, если уж рухнет, то такой будет трам-тарарам! Все усилия, жертвы, всё — псу под хвост. Света белого не увидим. Не-ет-с, — и он помахал пальцем перед носом подследственного, — этого допустить нельзя, мы и не допустим. Можете думать о нас что хотите, но только единственная сила, которая может спасти Россию, — это мы. Да, мы, государственная безопасность. Вот такие дела, уважаемый. А вы говорите...»
Писатель, несколько обескураженный, выслушал эту тираду. Итак, даже они... Не он один спрашивал себя, на чём всё это держится, и не находил ответа. И, однако, не мог представить себе, чтобы этот режим когда-нибудь испустил дух.
Он спросил:
«А как же будет со мной?»
«С тобой? — поднял брови майор, капитан или кто он там был, неожиданно перейдя на „ты“. — Следствие продолжается. Кто однажды отведал тюремной баланды... как это говорится?»
«Будет жрать её снова».
«Ну уж и пошутить нельзя. Ладно! — Он хлопнул ладонями по столу. — Заболтался я с вами, где у вас повестка-то...»
Он небрежно черкнул что-то. На нетвёрдых ногах составитель этой, вопреки разным несуразностям, всё же правдивой хроники направился к выходу. На улице моросил дождь.
Первое марта, пасмурный денёк... Два взрыва на Екатерининском канале.
XLVIII Сон без сновидца, называемый действительностью
Вечером 1 марта 1977
Он вернулся домой сильно утомлённый и, как был, не раздеваясь, повалился на раскладушку. И ему опять стало сниться: сперва, выходя на крыльцо вахты, он ещё сознавал, что видит сон, с любопытством ждал, что будет дальше; ночь была ясная и морозная, и небо над головой усыпано мелкими и крупными брильянтами. Но понемногу действительность сполна вступила в свои права, и, прохаживаясь от пожарного депо к магазину для вольнонаёмных, поскрипывая подшитыми валенками взад-вперёд, оставляя за собой угловую вышку, где темнела фигура стрелка и два огненных глаза били под прямым углом, над тыном и навесом с рядами колючей проволоки, и возвращаясь назад, он окончательно уверился в том, что всё происходившее в доме на Кузнецком мосту, болтовня майора в штатском, покушение на императора, комната родителей, куда он вернулся с допроса, если это был допрос, а не что-то тайное, двусмысленное и пахнущее провокацией, — что всё это приснилось ему, когда, усталый, он присел на ступеньки магазина и задремал ненароком. Он открывает глаза, дрожа от холода, встаёт на затёкшие ноги. Воспоминание о сне исчезло, он хлопал себя по бокам, хрустел по снежной тропе и ни о чём больше не думал.
Но правильней будет сказать, что мысль его, вслед за телом, как бы окоченела, сосредоточилась на одном: он выжидал. Он следил за временем, поглядывал на Большую Медведицу над тёмным лесом и постепенно удлинял свой маршрут. И вот уже, чуть погодя, человек-тайна, человек себе на уме шибко шагает в непроглядной тьме и, наконец, дошёл до оврага. Он вспомнил: деревня называлась Кукуй.
Он стоит на крыльце и топает валенками, отряхивая снег. Постучался в дверь. Вдруг оказалось, что дверь не закрыта. Это оттого, что его ждали. Он вошёл в сени, в темноте нащупал скобу и, наклонив голову, переступил порог избы. Никого не оказалось, на столе горела свеча, блестел жестяный венец вокруг неясного лика Богородицы, на стене пощёлкивал маятник часов-ходиков, висел плакат «Все на выборы». В ужасе он понял, что попал в ловушку, законвоируют, добавят срок, переведут на другой лагпункт, — и весь в поту проснулся.
Было жарко в одежде. День угас. Писатель сел на койке. Кто-то ещё, кроме него, находился в комнате: он услышал слабый смешок. В сумерках она сидела спиной к столу, и, как когда-то, поблескивали её глаза, белело лицо в платке.
«Ты здесь? — проговорил он. — А я сейчас был в деревне, прихожу, тебя нет. Нехорошо оставлять огонь, спалишь избу... Куда ты пропала?»
«К тебе поехала», — был ответ.
«Как же ты меня разыскала... столько лет прошло».
«Вот так и разыскала».
Он продолжал расспрашивать: «А как же твои ребята?»
«Они уже взрослые, зачем я им?»
И он подумал — в самом деле, при чём тут дети, он никогда ими не интересовался.
Тут ему пришла в голову простая мысль, что там, в лесном и болотном краю, время не может идти так, как оно идёт в столице. Там время не спешит. Там правит Сатурн. И его не удивило, когда, привыкая к сумраку, он увидел, что она ничуть не изменилась. Всё так же стояла её высокая грудь, светилась открытая шея и ровные зубы белели в улыбке.
Она сбросила на плечи платок, вынула гребёнку из ореховых волос, снова вставила.
«Маша, — сказал он, чуть не плача от счастья, — Маша... А я так скучал по тебе. Я тебя не забыл!»
«Вот и свиделись», — сказала она спокойно.
«Я думал, никогда больше не увижу тебя».
«Куды ж я денусь».
«Ты никуда не уедешь, ты здесь останешься?»
«Не знаю. Коли ты не против...»
«А дом, — сказал он, — можно продать».
«Какой дом?»
«Твой, в деревне. Мы поедем вместе, что надо, заберём. Сейчас можно ехать свободно, лагеря уже нет».
«Это кто тебе сказал, что лагеря нет. Лесу, может, и поубавилось. А лагерь, — она усмехнулась, — куды ж он денется».
«А деревня?»
«Очнись, милый. — Что-то материнское звучало в её голосе, и чувствовался знакомый северный акцент. — Ведь сам же говоришь, неровен час, можно спалить избу. Вот она и сгорела. В деревне, может, кто и остался, а дома больше нетути!»
«Ну и Бог с ним, — согласился писатель. — Даже ещё лучше. Маша! Что это мы всё говорим не о том?»
«А о чём говорить-то. Ну вот, — засмеялась она, видя, как он встаёт, тянется её обнять, — опять за рыбу деньги. Чуть только пришла, он уж снова за своё».
«Маша, я ведь тебя люблю. Только одну тебя по-настоящему и любил. Веришь ли, думал: а что, если мне туда вернуться... Маша! У меня никого больше нет, одна ты и осталась».
«Так уж и одна...»
«Возился тут с одной, ничего от тебя не утаю, но поверь, Маша, любовь бывает только одна! Я всё помню, я ничего не забыл... Вот говорят, — бормотал он, сидя на раскладушке и вперяясь во тьму, — вот говорят, тоска по лагерю... А ведь это правда. Ведь это же, можно сказать, самый что ни на есть законный образ жизни для русского человека. Небось слыхала пословицу: кто однажды отведал баланды...»
Она перебила:
«Нешто ты русский?»
«А кто же я? Гсподи, я и сам не знаю, кто я... Вот и я думал: что, если...»
«Не болтай! — послышался строгий голос. — Освободился, Бога благодари».
«Вот я думал: плюну на всё и махну к тебе. И приедем вместе».
«Тесновато будет», — сказала она задумчиво.
«Как-нибудь устроимся, Маша... Иди скорей, Маша...»
«На койке, говорю, вдвоём тесно будет... Да не гожусь я больше для таких дел, милый. Ты небось и не заметил».
Повернув голову, он увидел, что гостья всё ещё сидит боком к столу, силуэт на фоне светлого окна обведён серебряной каймой. Она встала, провела руками по груди и широким бёдрам.
«Раздеться мне, что ль, или так видно?»
И действительно, он увидел выбухающий живот.
«От кого же ещё...» — сказала она спокойно, отвечая на невысказанный вопрос.
«И ты молчишь?» — вскричал писатель.
XLIX Побег № 3. Порушенное отечество
24 апреля 1977
1
Зыбкая, смутная, как сама действительность, как проект ненаписанной главы, погода сопровождала весь его долгий путь. Он высадился в большом городе, стоял шум, шёл дождь, он двигался в толпе пассажиров, — это был, вероятно, вокзал, — постепенно всё смолкло и опустело, — в сумерках, под низкими, серыми, как намокшая вата, облаками, прыгая через тускло блестящие рельсы, пробираясь между вагонами, он достиг отдалённой платформы, и там ждал другой состав, путешественник смутно помнил, что должен был пересесть на поезд, идущий на Котлас, но оказалось, что он уже на той станции, откуда предстояло ему ехать в засекреченное лагерное княжество: длинная череда теплушек и два или три вагона для вольнонаёмных ждали отправления, — и он взобрался, никем не замеченный, в вагон. Послышались крики команды, топот, говор, этап из России прибыл — но разве и эта станция не была Россией? — и началась торопливая посадка. Но в вагон, где он сидел, никто не вошёл, и так он и поехал, один, лёжа на скамье.