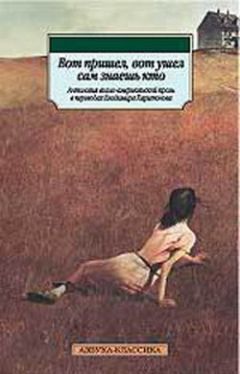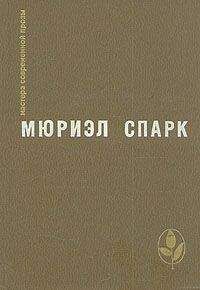Xавьер Мариас - Белое сердце
Профессор Вильялобос пил вино и с невероятной скоростью расправлялся с тортом, орудуя ложкой так, словно это был скальпель его отца-врача. После каждого глотка он промокал салфеткой влажные губы, но они все равно оставались влажными. Об этом деле ему тоже было известно больше, чем мне.
— Мои родители как раз были там, когда все это случилось, вы, наверное, этого не знали. Они были приглашены на обед. — Он сказал «вы, наверное, этого не знали», употребив форму множественного числа, — обычно так обращаются к супружеским парам. — Они вернулись в Барселону в сильном потрясении и очень часто потом вспоминали об этой истории. Твоя тетя встала из-за стола, взяла пистолет твоего дедушки, зарядила его, зашла в ванную и там выстрелила себе в сердце. Мои родители видели ее мертвой, и вся ваша семья тоже, кроме твоей бабушки, — ее тогда не было в Мадриде, она гостила у своей сестры в Сеговии или в Эль-Эскориале.
— В Сеговии, — сказал я. Это я знал.
— Так было лучше для нее. Возможно, твоя тетя намеренно сделала это в ее отсутствие, как знать. А твой дедушка так никогда и не оправился после того, как увидел свою дочь на полу ванной комнаты, в луже крови, с простреленной грудью. За обедом она вела себя как обычно, правда, не сказала ни слова и почти не притронулась к еде, — она казалась несчастной, хотя никаких видимых причин для этого у нее не было: она только неделю или чуть больше как вернулась из свадебного путешествия. Но все это мои родители сопоставляли уже после, а тогда, за обедом, никому и в голову не могло прийти, что такое случится. — И Вильялобос продолжил рассказ о том, о чем я не хотел знать, но узнал. Он рассказывал несколько минут. Рассказывал в подробностях. Рассказывал. Рассказывал. Единственный способ не слушать его был встать и уйти. Он заключил свой рассказ словами: «Все сочувствовали Рансу — ведь он овдовел во второй раз». Он замолчал и снова принялся за торт, но скоро оставил его: ложка снова застыла в воздухе, а он рассказывал о другом торте, — растаявшем торте из мороженого. Ни я, ни Луиса за все это время не проронили ни слова. Он положил свой инструмент на тарелку и вернулся к тому, с чего начал, как и положено профессору:
— Так что теперь ты понимаешь, почему, когда Ране женился на твоей матери, твой дедушка жил в постоянном страхе. Он бледнел и прижимал ладони к вискам всякий раз, когда видел твоего отца. Твоя бабушка была более сдержанной, к тому же она не видела свою дочь мертвой она приехала, когда ту уже похоронили. После этого твой дедушка жил (надо сказать, недолго), как приговоренный к смертной казни, который не знает, когда приговор будет приведен в исполнение, и каждый день просыпается в страхе, что этот день окажется последним. Сравнение не совсем удачное, он боялся не за свою жизнь, а за жизнь дочери, той, что у него оставалась. Он даже не мог спать по ночам. Вздрагивал всякий раз, когда звонил телефон или дверной звонок, когда приносили письмо или телеграмму, а ведь у твоих родителей не было даже свадебного путешествия — какое уж тут свадебное путешествие! — они не покидали Мадрид ни разу, пока он был жив. Мой отец говорил, что никогда не видел такого бесспорного случая смерти от страха. Инфаркт был только одним из проявлений этого страха, говорил он, могло бы быть и что-нибудь другое. После смерти твоего дедушки связи между нашими семьями ослабли. Я сблизился с Рансом несколькими годами позднее, тому были свои причины. Ну, что ты на все это скажешь? — Чувствовалось, что он собой доволен — все любят ставить эксперименты и рассказывать то, чего не знают другие. Профессор подозвал официанта и, несмотря на то, что уже съел десерт, попросил принести сыр и еще вина.
— Я голоден. Я сегодня не обедал, — извинился он.
Мы с Луисой уже пили кофе. Оставались еще два вопроса, два очень важных вопроса, которых нельзя было не задать, и задать их могли только мы. На самом деле эти вопросы следовало задать моему отцу, но он был далеко, и он не хотел говорить о далеком прошлом. А может быть, я ошибаюсь? Мне вдруг пришло в голову, что это Ране подослал Кустардоя несколько месяцев назад и что профессор здесь тоже по его поручению, что он хотел предупредить меня, подготовить к той истории, которую хотел мне рассказать, рассказать сейчас, может быть, потому, что я в первый раз женился, — он делал это трижды, и два раза все закончилось плохо (как говорили когда-то все и только что повторил профессор, ему очень не повезло). Но ведь тот высокопоставленный чиновник, у которого такая легкомысленная жена, тоже нашел меня через отца, однако он ничего мне не рассказывал. Мы с Луисой заговорили почти одновременно:
— Но почему она покончила с собой? — опередила меня на полсекунды Луиса.
— Кто была его первая жена? — спросил я.
Профессор Вильялобос положил себе бри и камамбера (и тот, и другой были очень маслянистые и нежные), намазал немного бри на тост, который, как только профессор откусил от него (он откусил слишком много), тут же раскрошился, испачкав лацкан профессорского пиджака и скатерть.
— Почему она покончила с собой, не знает никто, — ответил он с набитым ртом (на вопросы он отвечал в том порядке, в каком они были заданы, словно давал разъяснения студентам) Он запил еду изрядным количеством вина, чтобы легче было справиться с большим куском. — И твой отец этого не знает, так он сам сказал. Потрясение, которое он испытал, когда пришел в дом твоего дедушки к десерту, было не меньшим, чем у любого из присутствовавших и у тех, кто пришел после него, а его скорбь была даже более глубокой. Он говорил, что все у них шло хорошо, они были счастливы и все такое. Он ничего не объяснял и не мог объяснить. Когда они расставались тем утром, он не заметил ничего необычного, прощаясь, они обменялись более или менее нежными словами, теми же, что и всегда, теми же, какими вы, возможно, обменялись сегодня утром. Если это правда, то как он, наверное, страдал все эти годы! Твоя мать, должно быть, очень его поддержала. Возможно, Рансу пришлось выяснять, не вела ли твоя тетя Тереса двойную жизнь, о которой он не подозревал, такое тоже случается. Если он что-то узнал, то, полагаю, не разгласил этого. Не знаю. — Профессор вытер рот, сейчас ему это действительно было нужно: нужно было стереть прилипшие крошки тоста и пятна от сыра бри.
— Лацкан, — сказала ему Луиса.
Профессор взглянул на лацкан с удивлением и досадой. Пиджак был от Джильи, очень дорогой. Он неумело попытался оттереть пятно. Луиса смочила уголок салфетки водой и помогла ему. Она смочила салфетку, как я когда-то намочил полотенце в номере гаванского отеля, чтобы освежить ей лицо, шею, затылок (ее длинные спутанные волосы слиплись, и несколько волосков пересекали ее лоб, как предвестники грядущих морщин, заставив мое сердце на мгновение сжаться).
— Думаешь, пятно останется? — спросил ее профессор. Он хоть и задавался немного, но человек был очень достойный.
— Не знаю.
— Скоро узнаем, — сказал профессор и средним пальцем ткнул в испачканный лацкан дорогого пиджака от Ромео Джильи. Потом намазал камамбер (не на лацкан, а на очередной тост — он ел все вперемешку), — глотнул вина и продолжал, не теряя нити повествования:
— Что до его первой жены, то я знаю очень мало, только то, что она была кубинкой, как и твоя бабушка. Ране жил одно время в Гаване, как вы знаете, год или два, было это где-то в начале пятидесятых. Занимал какую-то незначительную должность в посольстве. Атташе по культуре или что-то в этом духе. Надо же!.. Я всегда думал, что он был чем-то вроде советника по искусству при Батисте. Сам он тебе об этом ничего не рассказывал?
Профессор ждал от меня уточнения, как в случае с Сеговией, но я вообще не знал, что мой отец жил на Кубе. Год или два.
— Кто такой Батиста? — спросила Луиса, она молода и легкомысленна, к тому же у нее не очень хорошая память (если дело не касается ее работы).
— Не знаю, — сказал я, отвечая не Луисе, а Вильялобосу. — Я не знал, что он жил на Кубе.
— Ну конечно, тебе же это тоже неинтересно, — с легкой издевкой заметил профессор. — Впрочем, неважно. Там он и женился на этой женщине, там же он, кажется, познакомился и с твоей матерью и с твоей тетей — они тогда провели в Гаване несколько месяцев, сопровождая твою бабушку, у которой то ли было там какое-то дело, связанное с наследством, то ли она просто не хотела состариться, не повидав места своего детства, точно не знаю, учтите, что все это только обрывки разговоров моих родителей, слышанные мною очень давно и не предназначенные для моих ушей.
Профессор Вильялобос был бы рад сменить тему, он не получал уже такого удовольствия от своего рассказа, его раздражало то, что он путался в датах, он терпеть не мог неполноты и неточности, — наверняка он писал только исследования о произведениях искусства, а не биографические исследования — биографии никогда нельзя считать законченными. Он положил в рот один из трюфелей, которые нам подали к кофе, положил так быстро, что я засомневался, действительно ли он проглотил этот трюфель (он проглотил его, как пилюлю): он еще не доел сыр, а смешивать сыр с трюфелями — это уже слишком! Однако на блюде стало одним трюфелем меньше.