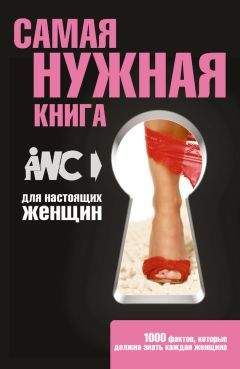Сол Беллоу - Герцог
Темнея и напрягаясь лицом и особенно глазами, он снял штаны, расстегнул до конца рубашку. Интересно, как будет реагировать Рамона, если он попросится к ней в цветочное дело? А что? Больше соприкасаться с жизнью, общаться с покупателями. Человеку его темперамента оказалось не по силам аскетическое ученое затворничество. Он читал недавно, что заточенные в своих комнатах одинокие ньюйоркцы повадились звонить в полицию за помощью: «Ради Бога, пришлите наряд! Пришлите кого-нибудь! Посадите меня к кому-нибудь в камеру! Спасите меня. Потрогайте меня. Придите. Пожалуйста, придите кто-нибудь».
Герцог не стал бы со всей определенностью говорить, что не завершит свою работу. Глава «Романтический морализм» вышла вполне удачная, зато к следующей, «Руссо, Кант и Гегель», он охладел и застрял на ней. Что, если в самом деле податься в цветоводы? Важность этого бизнеса чертовски преувеличивают, но ему-то какое дело? Мысленно он видел себя в полосатых брюках, в замшевых туфлях. Придется свыкнуться с запахом земли и цветов. Лет тридцать с лишним назад, когда он умирал от пневмонии и перитонита, он отравился сладким духом красных роз… Их прислал брат Шура, работавший тогда у цветовода на Пил-стрит, — наверное, украл. Герцогу казалось, что сейчас он вытерпит розы. Губительная штука, пахучая красота, стройный пурпур. Надо иметь силы выдержать такие вещи, не то они, постаравшись, пронзят до нутра, и ты изойдешь кровью.
Тут появилась Рамона. Толчком открыв дверь ванной, она замерла напоказ в светлой кафельной раме. Надушенная, до бедер открытая. На бедрах черные узенькие кружевные трусики. Туфли на трехдюймовых гвоздиках. И весь наряд, плюс духи и губная помада. Чернота волос.
— Я тебе нравлюсь, Мозес?
— Ах, Рамона, конечно! Ты еще спрашиваешь! Я восхищен.
Опустив глаза, она глуховато рассмеялась.
— Вижу, что нравлюсь. — Она отвела со лба волосы, когда наклонилась к нему проверить действие своей наготы — его реакцию на грудь и бедра женщины. Угольно чернели ее широко открытые глаза. Она взяла его запястье с набухшими венами и повела к постели. Он стал целовать ее. Понять это невозможно, думал он. Это тайна. — Почему ты в рубашке? Она тебе не понадобится, Мозес.
Оба посмеялись — она его рубашке, он ее убранству. Зрелище — что надо! Безусловно, одежда много значила для Рамоны: в ней покоилось ее сокровище — нагота. Его смех густел, стихая, уходя вглубь. Может, они полная глупость, ее черные кружевные исподнички, но они давали желаемый результат. Может, она действовала грубовато, но расчет был верен. Он смеялся, но уже был готов. Смешно голове, зато телу — жарко.
— Потрогай меня, Мозес. А тебя можно?
— Ну конечно.
— Ты рад, что не сбежал от меня?
— Рад.
— Так тебе хорошо?
— Очень. Замечательно!
— Если бы ты научился прислушиваться к себе… Свет оставить? Или хочешь темноту?
— Нет, лампа не мешает, Рамона.
— Мозес, милый. Скажи, что ты мой. Скажи!
— Я твой.
— Только мой.
— Только!
— Слава Богу, что ты есть. Поцелуй мою грудь. Любимый Мозес. О-о, слава Богу.
Оба спали крепко, Рамона — не меняя положения. Только раз Герцога разбудил реактивный самолет — могучей силы рокот с жуткой вышины. Не вполне проснувшись, он выбрался из постели и рухнул в полосатое кресло, собираясь сейчас же писать письмо — может быть, Джорджу Хоберли. Но вместе с самолетным гулом ушло и это намерение. Его глаза затопила тихая, жаркая, недвижная ночь — город с его огнями.
Разглаженное любовью и сном, цвело лицо Рамоны. В руке она зажала оборчатый край пододеяльника, голова высоко, раздумчиво лежала на подушке — ему вспомнился меланхолический ребенок на карточке в соседней комнате. Одна нога раскрылась, показывая чресельную роскошь чуть волнистой шелковой кожи, возбудительно пахнущей. У нее прелестной кривизны полноватый подъем. Нос у нее тоже с кривинкой. И наконец, плотно составленные по росту пухленькие пальцы. С улыбкой поглядывая, мешковатый спросонья, Герцог вернулся в постель. Погладил ее густую голову и заснул.
После завтрака он проводил Рамону до магазина. Она надела узкое красное платье, в такси они обнимались и целовались. Мозес был возбужден, много смеялся, то и дело повторяя про себя: «Как она хороша! И ведь благодаря мне». На Лексингтон-авеню он вышел с нею, и они обнялись на тротуаре (где это видано, чтобы средних лет мужчины вели себя так несдержанно в общественных местах). Рамона была густо намазана, лицо пылало, горело; она прижалась к нему грудью, целуя; ожидавший таксист и помощница Рамоны, мисс Шварц, были зрителями.
Может, вот так и надо жить? — задался он вопросом. Может, достаточно он хлебнул горя, отстрадал свое и имеет право не задумываться о том, что про него думают другие? Он крепче обнял Рамону, ощутил лопающуюся тесноту ее грудной клетки, этого красного платья. Получил еще один душистый поцелуй. На тротуаре перед витриной выставлены свежеспрыснутые маргаритки, лилии, розочки, помидорная и перечная рассада в плоских плетенках. Стояла зеленая лейка с дырчатым носиком. Расплывшиеся капли пятнали цемент. И хотя автобусы наждачили воздух вонючим газом, он обонял свежий запах земли, слышал проходивших женщин, их каблучную дробь на жесткой мостовой. Развлекая таксиста, почти открыто порицаемый скрывшейся за листьями мисс Шварц, он целовал красочное, пахучее лицо Рамоны. В укрытой золотой нью-йоркской облачностью лексингтонской котловине здравствовали травимые автобусным чадом цветы — гранатового цвета розы, бледные лилии, чистейшая белизна, роскошный багрянец. По допущению своего характера и под настроение он пригубил на этой улице жизнь бесхитростно любящего существа.
Но стоило ему остаться одному, как возобновился неотменимый Мозес Елкана Герцог. Да что ж я за создание такое! Таксист проскочил светофор на Парк-авеню, а Герцог рассмотрел положение вещей: я падаю на тернии жизни, истекаю кровью. Потом что? Падаю на тернии жизни, истекаю кровью. Дальше что? Меня укладывают в постель, я устраиваю себе недолгий праздник, но очень скоро падаю на те же самые тернии жизни, наслаждаясь болью, радостно страдая, — разберись кто может! Так что же во мне благотворного — и чтобы надолго? Неужели от рождения и до смерти я только одно могу иметь с этой патологии — благоприятное равновесие беспорядочных переживаний? И никакой свободы? Только импульсивные поступки? А как же все то благодетельное, что заключено в моем сердце, — неужели ничего не значит? Оно в насмешку, что ли, дается? Или оно фантом, манящий призрачным смыслом? Продолжай, дескать, человече, свои борения. Но нет же, данное мне во благо не фикция. Я знаю. Готов побожиться.
Он снова был необыкновенно возбужден. У него дрожали руки, когда он открывал дверь своей квартиры. Он чувствовал: что-то нужно сделать — что-то нужное, и сделать это немедленно. Ночь с Рамоной зарядила его силой, и эта сила возродила страхи, причем к прежним прибавился страх, что он надорвется, что эти сильные переживания окончательно сломят его.
Он разулся, снял куртку, ослабил ворот, открыл окна на улицу. Струи теплого воздуха с чуть гниловатым запахом гавани парусили ветхие занавески и маркизу над окном. На сквозняке он немного остыл. Нет, на добродетель сердца, видимо, не приходится рассчитывать: вот он пришел к себе, сорокасемилетний, переспав на стороне, с губой, распухшей от укусов и поцелуев, — и все те же проблемы перед ним, и в свое оправдание — что бы он еще представил? Был дважды женат; имел двоих детей; когда-то был ученым: в кладовке панцирным крокодилом пухнул его старенький саквояж с неоконченной рукописью. Пока он тянул время, с теми же мыслями подоспели другие. Два года назад его обставил некто Мермельштайн, профессор из Беркли[204], потрясший, поразивший, ошеломивший цеховых собратьев, каковой судьбы домогался для себя Герцог. Мермельштайн — умница и прекрасный ученый. По крайней мере, от личной драмы он, очевидно, избавлен и может явить миру образец упорядоченности, с тем обретая себя в человеческом общежитии. Он же, Герцог, чем-то погрешил против собственного сердца, когда рвался к всеобщему синтезу.
Этой стране нужен добротный пятицентовый синтез[205].
Сколько заблуждений в его списке! Взять хотя бы его сексуальные турниры. Совершенное не то. Герцог покраснел, наливая в мерную чашку воду для кофе. Нужно быть истериком по натуре, чтобы сделать свою жизнь игралищем резких крайностей типа сила — слабость, потенция — импотенция, здоровье — болезнь. Такой чувствует позыв разить общественную несправедливость, а силенок мало, и он воюет с женщинами, с детьми, со своими «несчастьями». Вот и этот хлюст зареванный, Джордж Хоберли, — та же история. Герцог смыл в чашке старое кофейное кольцо. Чего ради Хоберли кидается в ювелирные лавки за подарками для Рамоны, платит ей дань? Потому что он сокрушен неудачей. Вот пример того, как мужчины ставят на кон целую жизнь и часто уродуются, даже губят себя на избранном пути. Раз политика заказана, остается только секс. И, может, Хоберли решил, что не удовлетворяет ее в постели. Но это вряд ли. Технические неполадки, даже ejaculatio ргаесох[206], таких, как Рамона, не обескуражат. Конфуз скорее раззадорит ее, добавит интереса, подвигнет на великодушие. Рамона добрейший человек. Просто она не хочет, чтобы этот кошмарный тип перекладывал на ее плечи всю свою ношу. Возможная вещь, что такие, как Хоберли, свой собственный распад намерены выдать за несостоятельность личностного существования. Он-де это свидетельствует. Он доводит любовь до абсурда, чтобы окончательно дискредитировать ее. На этом пути он поможет Левиафану системы не хуже его преданных слуг. Возможно другое: если будоражат безответные запросы, ультиматумы, жажда деятельности, братства, если уходит надежда пробиться к реальности, к Богу, у человека лопается терпение и он очертя голову кинется на все, что поманит надеждой. И Рамона казалась такой надеждой, причем намеренно. Герцог знал, как это бывает: ему самому случалось подать людям надежду. Передать шифровку: Положись на меня. Тут, видимо, все решает порыв, избыток здоровья или полнота жизни. Эта вот полнота и ведет человека от одной лжи к другой либо побуждает его обнадеживать людей. (Пустота жизни городит свою ложь, но это уже другой вопрос.) Я, видимо, вот что делаю: распаляю себя собственной драмой — высмеиваю себя, выставляю неудачником, каюсь и наговариваю на себя, — и распаляю себя сладострастно, художественно, пока не выйду на сексуальную кульминацию. А в ней, в этой высшей точке, как бы разрешение, ответ на многие «духовные» проблемы. Так оно и будет, пока я доверяюсь Рамоне в роли жрицы. Она читала Маркузе, Н. О. Брауна, неофрейдистов. Она хочет уверить меня в том, что тело суть одухотворенная правда жизни, секстант души. Рамона — родной человек, бесконечно трогательная, но лучше не соблазняться теоретизированием. Только забредешь глубже в высокопарные дебри.