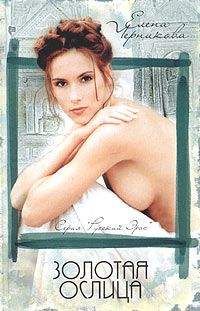Аскольд Якубовский - Возвращение Цезаря (Повести и рассказы)
Взлетевший бекас уже был среди верхушечной древесной зелени, он то вспыхивал оперением, то гас, то — черный комочек, то блистающая голубым огнем точка.
Я выстрелил вслед ему — без надежды, с отчаянием, с жалостью, потому что он жил здесь и один живил этот мир.
Я нажал гашетку, и на мгновение жизнь остановилась и застыла — горящие верхушки, живая точка среди них и голубая небесная вспышка. От нажима пальцем на ружейный спуск все это взорвалось и опрокинулось на меня — грохотом выстрела.
Прошелестели и стукнулись о землю сбитые сучья.
Кружились, падали зеленые листья.
Медленно, чертя воздушные узкие воронки, стало спускаться перо. Оно спускалось долго против идущих вверх воздушных течений. Я подставил руки, и оно село в ладонь — срезанное дробиной перо из птичьего крыла.
А бекас, невидимо мне, летел над зелеными макушками, и были они под ним — как трава для меня.
Странное пришло ко мне — приятность и расстройство Был промах, почетный промах по бекасу. Он все же улетел, унес себя. Я попал и не убил, и у меня остался трофей — перо Не об этом ли я мечтал, беря ружье, — ощутить гром выстрела, принести в дом примету моей удачи и все же не убить.
Но и тогда я не написал Свой рассказ А руки чесались, и слова ходили перед глазами. Я сел и стал писать что-то звездное — туманности ракеты… особенные волны. Я свинчивал конструкцию из попадавшихся мне повсюду деталей и на них наращивал слова, побывавшие во всех ртах.
Я чуть не напечатал этот рассказ.
Но мне было чего-то стыдно Я стал делать то, что принято называть поиском себя.
…Букет. Цветы воткнуты в Дорогую вазу. Я не знаю, как она попала ко мне со своей резьбой, со всеми своими гранями. Будто с другой планеты.
Из нее поднимается букет полевых цветов. Они собраны на неведомых лугах. Здесь есть фиалковые глямбии с Марса, лучиковые зикрии и вирсоусы, обвившие пряморастущую пахучку с Беги. Их красиво перемежают зеленые моучики, привезенные с Сквирса. На каждом стебле сидит по капле отборной росы, каждая в свой шарик втягивает мир. И не выпускает его обратно.
На этом кончаю: так в глупые свои годы я спасался от серости окружающего. Мой глаз не был зорок, я не видел, что серое — коллективный цвет, что оно составлено из всех мыслимых цветов, в нем самая глубокая глубина, тот гулкий колодец, в который я мальчишкой кричал свое имя.
Но прошли годы, добрые и злые, прошли и ушли и оставили мне простую стеклянную банку, полную лютиков, дикого горошка и пр. и пр. Я могу рассказать об этих цветах сказку. Со мной они говорят и красками и очертаниями.
Цветы эти я брал сам — на утреннем лугу. День еще только становился, я шел к солнцу, и все цветы между мной и солнцем горели.
Стояли в поле среди трав синие, желтые, красные свечи…
Я шел по росе и рвал их. Стряхивал с цветов примокших шмелей, разгонял шайки рыжих комаров, наскакивающих на меня.
И думал об эволюции, строившей эти цветы и этих комаров; о качествах хитиновых насекомьих костюмов. Прекрасное достигалось работой времени. Таков закон — все совершенное достигается работой и временем (и если добиваться высшей красоты и совершенства, как в природе, нам никогда не хватит его).
Свои рассказы я стал переписывать по десять раз. Я изучал технику словесности, пытался сделать ее привычной для себя. Я выбрасывал почти все написанное. Остатки хвалили, но не печатали. Я рад этому. Еще одна тайна была неведома мне. В ожидании ее открытия я работал, принимал участие в составлении карт Великих Сибирских Земель, а в свободное время фотографировал и занимался зверьем.
…Отец мой был художником, и судьба его была обычной для работающего человека его времени.
Труд в кузнице — с одиннадцати. Десять лет армии (войны германская и гражданская). Работа архитектором (их не хватало). Изобретательство (страну захлестывали идеи). В свободное время — занятие живописью.
Разбирая как-то его бумаги, я вдруг испугался до ужаса. На желтом листке я нашел идею радара — за изрядный кусок времени до извещения о нем. Отец справился с принципом работы передатчика, но чем принимать отраженный луч, вычерченный на бумаге, еще не знал.
И слишком поздно стал только художником.
Он умер… Когда уходил, он все пытался что-то сказать. Быть может, он догадался о принципе приема луча или приказывал беречь мать. Или хранить его этюды.
Я разбирал их для устройства выставки. Они были превосходны. В них сквозили такой цвет, такие возможности. Их могли вобрать только будущие его картины — ненаписанные.
Но у отца не было времени для живописи — были колчаки, бароны унгерны (и нужда в архитекторах, чтобы строить).
Я понял тогда, что нужно.
Нужно сжаться.
Собрать себя в кулак.
Отдать все, что есть и сколько есть, словесному искусству.
Но мало работы, самой большой, мало направленности всех сил, нужна еще и удача. Мой путь к профессии пишущего был и тяжел, и долог. И разве это не большая удача (но какая печальная!), что я своей работой нечаянно вошел в армию спасателей природы, которой человек нанес такие сокрушительные удары.
Разве не удача, что я могу говорить с людьми языком искусства и убеждать их быть справедливее и добрее к цветку, птице, насекомому, зверю…
Ведь часто бывает нужным слово, сказанное вовремя. И разве это не большая удача, что такое слово сказал мне когда-то Виктор Астафьев. И вот, держась на огонек доброго, но строгого ко мне отношения, я и бреду, как мне кажется, к лучшему.
И по-прежнему люблю фотографию, животных и даже охоту. Все мы, сибиряки, природолюбы, все охотники — с ружьем ли, фотоаппаратом или авторучкой.
И в словесном искусстве есть поиск, прицел и выстрел. А иногда, если повезет, приносишь трофей.
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4 Издательство «Современник»