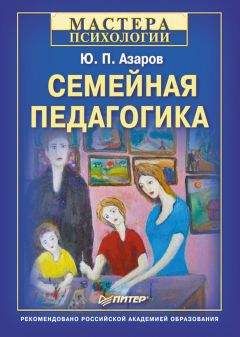Юрий Азаров - Печора
— Это интересно. В чем переходность?
— Во всем, — ответил Рубинский, доставая записи, сделанные на французском, санскрите, н древнекитайском языках. — Живет за счет разрушаемого. Фактически заражен полным неверием, страдает оттого, что постоянно «забрасывает себя» в чуждый ему мир культуры, страдает оттого, что всячески предает эту культуру.
— Без словоблудия прошу, — прервал Рубин-ского Иннокентий X.
Я рад был тому, что Рубинского оборвали. Как всегда, я протестовал против того, что говорил Рубинский. И как всегда, мое нутро пасовало перед его абсолютным всезнанием. Мне хотелось крикнуть: «Все переврал! Никакой я не аутсайдер. Я, напротив, верую и созидаю. Я укрепляю веру в других. Смягчаю нравы и обстоятельства. Пытаюсь сделать их более человечными. Рубинский во мне приметил лишь внешнее. Конечно же, это моя беда, что я в любом клане чувствую себя необходимым. Стремлюсь жить в любой среде. Но вовсе не для того, чтобы паразитировать. Нет. Во мне живет н мною движет страстная сила единения с другими. Она и является главной пружиной моего бытия. Эта сила противостоит многому: и истинному аутсайдерству, и суперисключительности, и нигилизму, и произволу. Я живу, потому что пьян жизнью, потому что все удивительно и все хочется узнать. Если мои желания н моя воля к жизни — обман, тогда нет истины, тогда нет красоты, нет жизни. Я чувствую себя здоровым, эйфорически полноценным, потому что противостою неврозам, злокачественным образованиям аморализма, всему чудовищному и безобразному. Моя надежда в самоосуществлении моих великих замыслов, которые реально, не только в понятийном смысле, приблизят меня к гармонии человеческого бытия».
— Ложь! — прервал мои мысли Рубинский. Я забыл, что здесь все прозрачно, все читаемо. И потому не стал рассуждать про себя. Я ответил:
— Здесь есть крайне сложный чисто гносеологический нюанс, который покоится, или, точнее, исходит из великого закона относительности, к сожалению, не перенесенного в область гуманитарии. Дело тут вот в чем. Любую прекрасную идею можно скомпрометировать, оседлав такую лошадку, как Эрудиция. Любое элементарное движение к новизне можно обвинить в переходности. Скажу вам: переходность — достоинство, а не порок. Рубинский не способен к творческому видению переходности, и потому всякого, кто тяготеет к преобразованиям, обвиняет в исключительности, потому что именно себя и себе подобных причисляет к лицам, которым принадлежит это право. Если копнуть поглубже, то подлинное неверие, трусливое, ограниченное, мелкое, принадлежит ему. Он убежден, что истинный мир давно соскочил с петель, и чтобы выжить в нем, нужны иллюзии, рассказывающие о прочности мира. Он верит: чтобы побудить людей к действию, нужна красивая ложь — аполлоновское искусство, знающее о своей радикальной лживости, не желающее иметь дело ни с чем, кроме своих иллюзорных образов и доктрин.
— Откуда эта ересь?
— Ницше, — прошептал Рубинский.
— Совершенно верно, — решительно сказал я. — С той лишь разницей, что апокалипсическому философу были доступны ловкие игры с этико-эстетическими феноменами, а рассуждения типа Рубинский — Бреттер способны лишь к поверхностной констатации компилятивного плана: они не доросли до аполлоновских хитросплетений.
— Ближе к делу! — раздался голос папы.
— Лгу ли я детям, когда зову их к счастью, когда пробуждаю их волю, когда учу их любить друг друга, когда помогаю им творить самих себя?
— Человек способен что-либо изменить в своей жизни?!
— Многое, — ответил я. — Человек — хозяин своей судьбы.
Папа расхохотался.
— Идея кузнечика. Каждый кузнец своего счастья. Ну-ка, Бреттер, расскажи про кузнечиков! Как они на твоих глазах готовы были творить и самих себя, и всемогущие обстоятельства.
— Я был посажен в трюм миноносца «Аммулат Бек» вместе с шестьюдесятью искусствоведами, философами, авторами опер, либретто, романов, пьес, цирковых программ. Всех их ожидала мученическая смерть, В квадрате шесть ноль пять люк камеры предполагалось открыть — и все, кроме меня, должны были выпасть в открытое море. Ключ от люка был у меня. И вот по сигналу сверху, когда миноносец достиг названного квадрата, я сказал искусствоведам, философам и драматургам: «Прежде чем открыть люк, я хотел бы у вас спросить: «Кто желает стать филером?» Этот мой вопрос означал: кто желает спастись? Пятьдесят девять человек подняли руки, все, за исключением одного либреттиста. Этот последний не имел рук.
— Значит, все они пожелали быть хозяевами своей судьбы?
— Именно так, ваше преосвященство, — ответил Бреттер.
— И как же они распорядились своей судьбой?
— Они отправились кормить рыбок. Я видел их искаженные лица. Они молили о пощаде. А я смеялся им в лицо.
— А почему вы их не пощадили?
— Во-первых, это было не в моих силах, а во-вторых, это было бы несправедливо. Они в своих книжках утверждали, что мученическая смерть за правду — высший героизм.
— А вы разве не так считаете? — обратился снова ко мне Иннокентий X.
— Не так, — ответил я раздраженно.
— Позвать лжесвидетелей, — приказал Иннокентий X.
Вошли Россомаха и Абрикосов.
— Я, сын кузнеца и внук гончара, Герник Абрикосов, свидетельствую, что в ночь на девятнадцатое февраля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года объект номер триста пять прошел к вокзалу, у буфетчицы купил пачку «Казбека» и затем направился в шестнадцатый номер гостиницы, где проживала Лариса Морозова. Дверь все три часа пребывания в номере объекта номер триста пять была заперта на ключ. Установить подробности беседы объекта номер триста пять с Морозовой не удалось. К тому же оба подозреваемые имитировали конфликт с целью конспирации. «Кто вы такой?» — в ужасе сказала Морозова. «Я ваш друг. Я пришел вам помочь. Я от него!» — «У вас есть доказательство?» — «Есть». — «Покажите». — «Подойдите ко мне». После этих слов из комнаты послышался сильный запах хлороформа…
— И что дальше? — спросил папа.
— А дальше ничего, — сказал, облизывая губы, Абрикосов. — Дальше полная тишина.
— И никаких шумов, потрескиваний?
— Шумы были, но весьма незначительные.
— Когда вы вошли в комнату?
— Когда объект номер триста пять ушел из комнаты, мы вошли в номер. Морозова лежала обнаженная на полу.
— Следы насилия были?
— Нам не удалось установить.
— Почему вы сразу не задержали объект триста пять?
— Потому что в инструкциях он значился как потенциальный особо ценный материал.
— Слышите, — обратился ко мне Иннокентий X. — Особо ценный! Милый, мил-л-лый! — прокричал Иннокентий X, вытягивая губы в трубочку. — Ты поможешь мне победить Паскаля, я дам тебе за это одно из курфюрств моих врагов. Ты согласен?
Я покачал головой.
— Второй лжесвидетель! — приказал Иннокентий X.
На середину вышел Россомаха.
— Я, Россомаха Владимир Ионович, сын бедняка и пьяницы, впоследствии одного из вожаков новой жизни, как источник достоверной информации даю следующие показания: Морозова находилась в близости с объектом номер триста пять…
Папа, потирая руки, радостно причмокивал:
— И что же, она недурна была, эта Морозова?
— Не то слово, — пояснил Россомаха. — Сложена, как Венера.
— С зеркальцем? Работы моего приятеля Веласкеса?
— Совершенно верно. И зеркальце валялось рядом с Морозовой.
— Зеркальце в деревянной оправе?
— Да, из черного дерева оправа.
— С золотым ободком?
— С очень потемневшим золотым ободком. Я еще приметил, что стекло было очень толстым, по краям граненным.
— Так-так. Подробности — это хорошо. Так что Морозова? Особые приметы? Грудь, таз, плечи? — Иннокентий _Х подался вперед, весь обратился в слух.
— Грудь девичья. Правая чуть больше левой. Соски ярко-розовые, удлиненной формы.
— Виноградинками? — подсказал Иннокентий X.
— Похоже, что так. Таз узкий. Плечи островатые.
— Превосходно, миряне. Вам, Бреттер, это ни к чему. Узкий таз и островатые плечи — это прелестно. Все это мне напомнило историю с синьорой Да-метти. Когда боги благословили её на радость в моих покоях, а она того не пожелала, кончилось вот так же. Я пришел к ней наутро, а она лежала на полу, и зеркальце валялось рядом. Зеркальце с золотым ободком. Её даже не хоронили. Моя шхуна увезла её далеко в море. Так-так, дальше рассказывайте…
— А дальше мы исследовали реакцию объекта триста пять на Морозову в обнаженном состоянии. Объект триста пять, как и предполагалось, вздрогнул дважды, когда увидел Морозову на столе и когда были впервые упомянуты придатки.
— Вздрогнули? — спросил Иннокентий X.
— Вздрогнул, — подтвердил я.
— Ну вот и все?
— Что, в мешок его зашивать, или же здесь прикончим? — спросили инквизиторы.