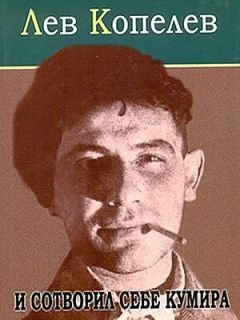Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 6 2010)
Повторю: наведение порядка было объективной необходимостью. Но в случае победы Белого движения первостепенной задачей стало бы наведение
п о р я д к а в у м а х, что, естественно, потребовало бы длительного времени. А победа красных привела к тому, что страна надолго застряла в плену коммунистической идеи. Под ее звучным прикрытием некие «глухонемые демоны» (воспользуюсь образом Тютчева) занялись новым распределением власти и собственности в пользу крепнущей номенклатуры. Под ее же прикрытием была фактически уничтожена почти вся большевистская «гвардия»; причем сделано это было с такой свирепостью, на какую ни один белый генерал был не способен. Но Сталин как «народный смиритель» (в двояком смысле — «смирителя — выходца из народа» и «смирителя народа») развернул террор не только против старых большевиков и против «бузотеров» всех мастей и расцветок, но и против крестьянства, ставшего основным, хоть и пассивным, препятствием на пути к всевластию номенклатуры. И не только против крестьянства; с какого-то момента террор приобрел «демонстрационный» характер: людей стали арестовывать «ни за что», просто чтобы каждый знал, что завтра может прийти и его черед.
Такова была, надо полагать, первая забота Сталина: внушить стране леденящий душу страх. Для этого из карательных органов были удалены «революционные романтики» типа Дзержинского и Менжинского (хотя эти «рыцари идеи» тоже были по-своему хороши); на их место пришли люди типа Малюты Скуратова, в том смысле, что их отличала личная преданность вождю и беспрекословная исполнительность. И они готовы были крушить по его приказу направо и налево, не разбирая правых и виноватых.
Хотя в некоторых отношениях и сталинский террор оставался, как ни дико это звучит, в рамках, заданных современной цивилизацией. Это сказалось, в частности, в том, что соблюдалась видимость писаной законности; даже скороспелые «тройки», заменившие обычные суды, какими-то минимальными формально-юридическими процедурами не пренебрегали. Это сказалось и в том, что не произошло возвращения к зрелищным казням [14] . Все, что совершалось в застенках и лагерях НКВД, оставалось глубоко скрытым от населения; но и того, что просачивалось сквозь железные ворота, было достаточно, чтобы внушить всеобщий страх. Далее, осталась в прошлом, за немногими исключениями, чувственная жестокость, характерная для Средних веков и даже для начала Нового времени; ее сменило равнодушие к чужим страданиям. Во всяком случае лично Сталину чувственная жестокость не была свойственна, даже несмотря на его документально подтвержденные садистские наклонности (отличавшие его, скажем, от Ленина и Троцкого). Его невозможно представить, как царя Ивана, разрумянившимся от пыточных дел. Он был, если можно так выразиться, кабинетным садистом; как и вообще был скорее кабинетным деятелем, «письмоводителем» (он и работал какое-то время письмоводителем до революции).
Впервые прочитав на шестом десятке лет «Братьев Карамазовых» (а для других произведений Достоевского он, похоже, так и не нашел времени; впрочем, и относительно «Карамазовых» не ясно, дочитал ли он роман до конца), Сталин особо выделил «Беседы и поучения старца Зосимы», которые исчеркал своими карандашами. В словах Зосимы: «А Россию спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его», — Сталиным жирно подчеркнуто «смирение». Значило ли это для него, что народ нуждается в у смирении? Несомненно. Но дальше следует вот что: «Смирение любовью — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобно которой и нет ничего» (опять-таки жирно подчеркнуто) [15] . А в «Воскресении» Толстого двумя красными вертикальными чертами выделены слова Нехлюдова: «...все дело
в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности» [16] .
О чем мог думать Сталин, читая выделенные им строки? Наверное, не о том, что ему следует возлюбить ходивших под ним, а, наоборот, что ходившим под ним следует возлюбить его, тов. Сталина. И он действительно стал купаться в народной любви, даже без особых усилий со своей стороны. Это было какое-то стихийное идолопоклонство, морок, овладевавший людьми с малых лет [17] . Заявившая о себе как о «новом мире» красная Россия на самом деле свалилась в архаику: во главе страны встал человек, которого психоаналитики называют мана -личность — ведун, знахарь, властелин людей и духов.
Но еще, наверное, Сталин думал о том, что без восстановления человеческих отношений не может быть сколько-нибудь крепкой державы. В отличие от Ивана IV, который мог делать со своим народом все, что хотел, он не был всесильным. И уж во всяком случае он не мог заставить людей любить друг друга. Но он мог просто не мешать тому, что существовало независимо от его воли. За короткий срок трудно было совершенно выстудить страну: в уголках человеческих душ, на всякого рода задворках, более или менее укрытых от опасных трактов, сохранялось накопленное за долгое время тепло. И оно искало выходы в общественную жизнь. Такие выходы были найдены, в частности, в литературе и искусстве — кремлевскому Тучегонителю достаточно было лишь корректировать их движение. Дикарь считает, что мана потому приобретает власть над ним, что ему однажды удалось наступить на его тень. Сталин тоже в некотором смысле «наступил на тень», оставленную прежней Россией, и заставил ее «работать» на себя. Это относится, в частности, к литературе и искусству, на протяжении 1930-х годов привнесшим в советскую действительность даже некоторую музыкальность, приглушавшую все страшное, убогое и зачастую нелепое, что она в себе заключала [18] .
Конечно, свою роль сыграл и мираж коммунизма, зовущий «на полусчастье не останавливаться» (Леонид Леонов), но идти до конца, к каковым призывам население хотя бы вполуха, да прислушивалось.
Под комбинированным воздействием страха и человеколюбивых начал выросло два-три поколения, за которыми нельзя не признать некоторых существенных достоинств. И определенных достижений в самых различных областях деятельности. Но магия, назовем ее так, к которой прибег хозяин Кремля (или, правильнее будет сказать, которая сама далась ему в руки), по сути своей была кратковременного, если мерить ее историческими мерками, действия.
Д. С. Мережковский писал, что XX век — это век борьбы глубоких с плоскими, преимущественной ареной которой стала Россия. Как личность Иван IV, нельзя ему в этом отказать, был глубок, а Сталин явился царем плоских и сам был плоским. Плющильный молот расплющивал людей, равно перекрыв им доступ к тому, что выше, и к тому, что ниже. Особенно строго ограждена была от взоров «верхняя бездна» [19] . С другой стороны, фактически запрещен был, как это называется у некоторых африканских племен, «разговор со своей змеей», иначе говоря — с собственным подсознательным; на все низкое, что змеилось из душевного подполья, наступил закон. Что было бы правильным, если бы правильным был закон. Но даже правильный закон не способен в одиночку совладать с низменными инстинктами, древними, как само человечество.
А ведь человек, зажатый меж «двумя безднами», не может оставаться оторванным от них сколько-нибудь длительное время. Без выяснения отношений с ними не будет в его душе сколько-нибудь устойчивого порядка.
Отложенная жатва
Апологеты равно Ивана IV и Сталина обычно избегают говорить о последствиях, какие имело правление того и другого. Виппер, правда, пишет, что к концу царствования Ивана «военное устройство» претерпело «полный распад», но в контексте это можно понять так, что распад произошел не потому, что царь взял неверный курс, а потому, что проводил его недостаточно энергично. Именно так понял дело Сталин, говоривший (в частности, в беседе с С. М. Эйзенштейном), что ошибка Грозного в том, что он уничтожил только половину бояр, вместо того чтобы уничтожить все боярство целиком.
Но если бы Иван уничтожил все боярство, он едва ли не добил бы собственный народ. И так от него осталось много меньше того, что было раньше. Фильм Лунгина заканчивается выразительным кадром: сидя на троне, царь вопрошает окружающее его пустое пространство: «Где мой народ?» Действительно, народу резко убыло физически, а тот, что остался, в большой мере отложился от него психологически, утратив доверие к царю как к сакральному институту. Обезлюдели целые деревни, особенно в Центральной Руси и Новгородской земле, а многие из оставшихся в живых прежних их обитателей подавались в леса — разбойничать. Чернь, констатирует современник, приобретала вкус к погромам и убийствам.