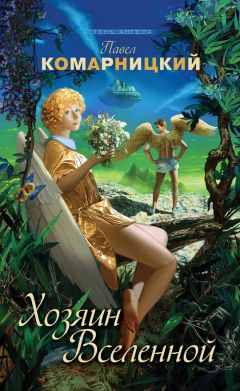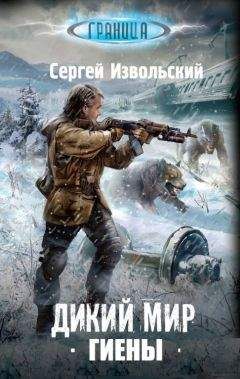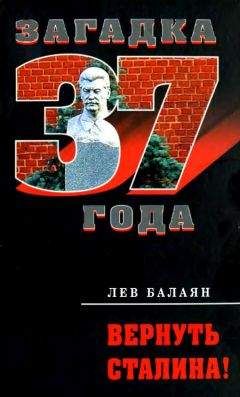Габриэль Руа - Счастье по случаю
Выйдя из трамвая на улице Нотр-Дам, Роза-Анна увидела около ресторана «Две песенки» свежеотпечатанную сводку последних известий. Перед ней толпилась кучка мужчин и женщин. Поверх этих наклоненных голов и словно придавленных изумлением плеч Роза-Анна издалека увидела на желтом фоне бумаги крупные, бросающиеся в глаза буквы:
НЕМЦЫ ВТОРГЛИСЬ В НОРВЕГИЮ!
БОМБЫ НАД ОСЛО!
Она застыла на месте, ошеломленная, уставясь в пространство и дергая ремешок сумки. В первую минуту она даже не поняла, отчего это известие так ее потрясло. Потом ее мысли, уже привыкшие всюду сталкиваться с несчастьями, обратились к Эжену. Сама не зная почему, она твердо и бесповоротно поверила, что судьба ее сына связана с этой новостью. Она перечитала огромные буквы еще раз, слог за слогом, шевеля губами, почти произнося слова вслух. На слове «Норвегия» она остановилась, размышляя. Ей показалось, что эта далекая страна, местонахождение которой она представляла себе лишь весьма смутно, каким-то странным образом неразрывно связана с жизнью ее сына. Она ничего не сопоставляла, не обдумывала: она забыла даже, что Эжен в самом последнем письме уверял ее, будто останется в учебном лагере еще по меньшей мере полгода. Она видела только буквы, оповещавшие ее о близкой и страшной опасности. И эта женщина, никогда ничего не читавшая, кроме молитвенника, сделала то, что ей было совсем не свойственно. Она поспешно перешла улицу, роясь на ходу в своей сумочке, и, подойдя к продавцу газет на противоположном тротуаре, протянула ему три цента и тут же развернула свежую, еще пахнущую типографской краской газету, которую он ей подал. Прислонившись к стене какого-то магазина, она среди толчеи выходивших из фруктового отдела покупательниц прочла несколько строк, изо всех сил прижимая к себе сумку. Через минуту она машинально сложила газету и посмотрела перед собой горящими от гнева глазами. Она ненавидела этих немцев. Она, никогда в жизни не питавшая ненависти ни к кому на свете, возненавидела этот неведомый ей народ неумолимой ненавистью. Она ненавидела их не только за то, что они принесли ей это несчастье, но и за все страдания, которые они причиняли другим женщинам, таким же, как она сама.
Она механическим шагом направилась к улице Бодуэн. Внезапно она хорошо поняла этих женщин из дальних стран — всех этих полек, норвежек, чешек и словачек. Все они были такими же женщинами, как она сама. Простыми женщинами из народа. Труженицами. Теми, кто во все века видел, как уходят от них мужья и сыновья. Одна эпоха кончалась, начиналась другая; но всегда было одно и то же. Во все времена женщины прощально махали рукой или плакали, прикрывая лицо платком, а мужчины маршировали в строю. И ей вдруг показалось, что она идет по этой залитой солнцем вечереющей улице уже не одна, а в сомкнутой колонне, среди других женщин, среди тысяч и тысяч других женщин и слышит их вздохи — усталые вздохи тружениц, женщин из народа, доносящиеся до нее из глубины веков. Она сама принадлежала к числу тех, кому нечего защищать, кроме своего мужа и своих сыновей. К числу тех, кто не пел, когда уходили на войну. К числу тех, кто провожал уходящих солдат, не проливая слез, но в сердце своем проклиная войну.
И тем не менее сейчас она ненавидела немцев больше, чем войну. Это ощущение смущало ее. Она пыталась прогнать его, как отгоняют от себя дурные мысли. Кроме того, оно пугало ее потому, что каким-то образом заставляло согласиться в душе на ту жертву, которую от нее требовали. Она попыталась вновь овладеть собой, защитить себя от ненависти и от жалости. «Ведь мы в Канаде, — убеждала она себя, ускоряя шаг. — То, что происходит сейчас в других странах, конечно, очень важно, но ведь мы-то здесь ни при чем». Она ожесточенно отрекалась от печальной процессии, следовавшей за ней. Но как она ни ускоряла шаг, ей не удавалось убежать от нее. Ее, казалось, окружила несметная толпа, стекавшаяся отовсюду, из прошлого, из настоящего, из далеких и близких мест: все новые и новые женщины возникали вокруг нее, и все они были такими же, как она. Но они, эти чужие, несли бремя страданий, еще более тяжкое, чем ее собственное. Они оплакивали свои разрушенные очаги; они шли к ней и, узнавая ее, с мольбой простирали к ней руки. Ибо во все времена все женщины в горе узнают друг друга. Они умоляли ее еле слышно, воздевая свои руки, словно просили хоть чем-нибудь помочь им. Роза-Анна шла торопливой походкой. И в ее душе, в душе простой женщины, происходила жестокая борьба. Она видела отчаяние своих сестер, она смотрела на него без содрогания, она встречала его лицом к лицу и понимала весь его ужас; но потом она бросила на весы судьбу своего сына, и эта судьба перевесила. Эжен представлялся ей сейчас таким же покинутым, таким же беспомощным, как и Даниэль. Это было одно и то же: она видела, что одинаково нужна обоим. И вместе с пробудившимся инстинктом хранительницы очага к ней вернулась ее энергия, она вновь обрела свою цель и отбросила все другие мысли.
Немного не доехав до улицы Бодуэн, Роза-Анна сошла с трамвая у «Пятнадцати центов» — она собиралась поговорить с Флорентиной о Даниэле, а заодно и купить в бакалее на улице Нотр-Дам кое-что для ужина. Но она забыла обо всем этом. С решительным видом, крепко сжав руки, она направилась прямо к дому, встревоженная, словно там ее уже подстерегала какая-то новая угроза, которую любой ценой надо устранить, отвести, обуздать или даже предотвратить, если еще не будет поздно.
Но, увидев свой дом, она ощутила нечто вроде успокоения, и ее губы даже тронула слабая улыбка.
Она поспешно вошла в кухню, на ходу снимая пальто. Даже среди всех треволнений она не забывала, что час уже поздний и пора готовить ужин. Ослепленная ярким светом улицы, она в первую минуту различила в полумраке только привычные очертания стола, стульев, буфета. Пройдя в столовую, она повесила пальто в стенной шкаф; затем, надев фартук поверх своего лучшего платья, которое ей уже некогда было снимать, вернулась на кухню. Она уже засучила рукава выше локтей и подходила к плите, как вдруг заметила Эжена, который сидел за столом и с улыбкой смотрел на нее.
Роза-Анна протянула к нему дрожащие руки. Потом, не в силах от волнения произнести ни слова, она немного отступила, чтобы оглядеть его с головы до ног. Правда, вдруг увидев его, она была не очень уж ошеломлена. Она поняла, почему торопилась домой и так тревожилась, — именно из-за предчувствия, что он здесь и что она ему нужна. И когда он немного позже высказал ей свою просьбу, то, хотя эта просьба никак не была связана с ее страхами за него, она нисколько не удивилась. Она дошла уже до того, что вопреки своему обычному здравому смыслу готова была исполнить даже самую неразумную просьбу кого-нибудь из своих детей.
Дети играли на улице. Роза-Анна была наедине со своим сыном, но, боясь, что кто-нибудь им помешает, она поспешно повела его в столовую. Кроме того, ей казалось, что этого красивого юношу в военной форме, румяного от упражнений на свежем воздухе, так непохожего на того Эжена, которого она помнила, следует принять по всем правилам гостеприимства.
— Дай же мне поглядеть на тебя как следует! — говорила она, ведя его в самую светлую комнату их квартиры и оборачиваясь на каждом шагу, чтобы посмотреть на него. В ее голосе невольно звучала гордость за сына, такого статного, посвежевшего. Но если бы она разобралась в своих чувствах до конца, то с удивлением обнаружила бы в них некую толику и суетной гордыни, и смущения оттого, что Эжен приехал как раз тогда, когда она не была готова его принять, и застал в доме полный беспорядок.
Как только они присели рядом на кожаный диван, ею снова овладел страх. Несмотря на цветущий вид, Эжен выглядел озабоченным. И она решила было, что он приехал домой без разрешения начальства.
— Наверное, тебя хотели послать туда, — сказала она с горечью, указывая на смятую газету, которую бросила на буфет.
Эжен рассмеялся. Но смех его звучал вяло, деланно и невесело, скорее даже печально, и он все время приглаживал рукой свои густые волнистые волосы.
— Да что ты, мать, вовсе нет! Ты все такая же, вечно что-то выдумываешь!
Наступило молчание. Эжен, в свою очередь, пытался завязать разговор. Он рассказал кое-какие подробности о жизни в лагерях; уверял, что очень доволен. Потом он замолчал, обдумывая, как бы ему перейти к самому важному.
Роза-Анна продолжала расспрашивать его. Хорошо ли кормят в армии? Очень ли он там скучает? С кем подружился? Эжен отвечал рассеянно, улыбаясь иногда наивности ее вопросов, и с недовольным видом оглядывался по сторонам. Господи, до чего же все тут убого и мрачно! Он вспомнил, как мать сама ставила его маленькую раскладушку и стелила тонкий матрас, когда он хотел лечь спать пораньше; как она заботливо оставляла для него ужин в духовке, когда он до поздней ночи шатался по улицам предместья. Он вспомнил ее белое, осунувшееся лицо в тот день, когда она пошла в полицейский участок, чтобы защитить его и вымолить ему прощенье; он вернул украденный велосипед, но ей пришлось еще немало похлопотать, чтобы избавить его от суда и наказания. Он вспомнил даже маленькую выцветшую шляпку, которую она тогда носила, и ее лучшее платье — воскресное платье, которое она надела в тот день, — ей хотелось произвести благоприятное впечатление и вызвать сочувствие. Ах, как все эти воспоминания были сейчас некстати! Он предпочел бы вспомнить какую-нибудь несправедливость матери, какую-нибудь неоправданную вспышку гнева — тогда ему было бы легче высказать свою просьбу.