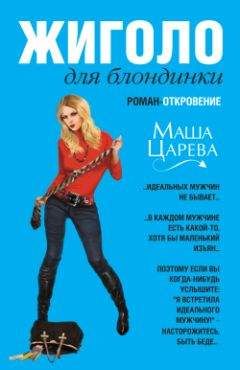Виктор Пелевин - Любовь к трем цукербринам
Кеша побрел по площади, вежливо улыбаясь встречным. Люди стояли по двое, иногда по трое — в тогах, трико, накидках из перьев, репрессивных униформах из черного латекса с предусмотрительно перечеркнутыми свастиками и даже в стоячих балетных юбках на голое тело — здесь было столько же разных identities, сколько собравшихся. Как всегда, проходя через этот удивительный человеческий цветник, Кеша дивился числу непохожих друг на друга форм, принимаемых свободным духом, и тихонько гордился, что он тоже часть этого волшебного сада (увы, увы, черная роза с ядовитыми шипами — но не значит ли это, спросим мы шепотом, что такой цветок тоже угоден цукербринам?).
Судя по тому, что над Колодцем Истины подняли памятник Данко, общественная дискуссия на площади касалась дальнейшей сексуальной эмансипации человека — и, как всегда в таких случаях, обещала быть жаркой. Кеша увидел возле памятника помост, похожий на эшафот из рождественской сказки. Вместо плахи на нем стоял стол президиума.
Как всегда в LUCID-сне, достаточно было зафиксировать внимание на объекте, чтобы тот оказался совсем рядом. Зрителям ни к чему было шагать к предмету своего интереса сквозь иллюзию пространства, и на площади Несогласия никогда не возникало давки. Каждый отлично видел все оттуда, где стоял — и Кеша тоже.
В президиуме сидела обычная для таких вечеров тройка, официально называвшаяся «Trigasm Superior». Это были три старые матерые феминистки — седые, загорелые, голые по пояс, с голографическими многоцветными татуировками на дряблых сухих грудях, оттянутых вниз вдетыми в соски гирьками (у Кеши заныло в паху — но не из-за возбуждения, просто он вспомнил, что завтра или послезавтра на работу).
Его заинтересовали татуировки, и старушечьи молочные железы заняли весь центр его поля зрения. Оказалось, на этих скрученных временем пергаментах размещалась целая художественная выставка — причем не в переносном, а в прямом смысле.
Кивнув пригласительному знаку, Кеша нырнул под сухие, выдубленные временем кожистые своды. Реальность несколько раз моргнула (выставка, судя по всему, самонастраивалась на национально-культурные параметры посетителя) — ив уши Кеше ударило печальное блеяние балалаек и домр.
Он оказался в пространстве вечной памяти и скорби, в одном из тех траурных мемориалов, что напоминают освобожденному человечеству о неизмеримой боли, сквозь которую люди тысячелетиями брели к свободе и счастью. Экспозиция посвящалась страданиям русской женщины в эпоху патриархата — и изображала традиционные ритуалы гендерной инициации в русской деревне.
Художественное решение впечатляло. Выглядело все так, как если бы множество мелких татуировок на женской коже ограничили четырехугольниками из спичек, а затем увеличили результат во много раз и превратили в стену галереи. Или как если бы Кеша смотрел на бок татуированного слона-альбиноса. Участки эпителия, обрамленные рамами, стали как бы развешанными на стене картинами. Получилось свежо, смело — но высокий трагический пафос ничуть при этом не снижался.
Содрогаясь от балалаечного crescendo, Кеша побрел по кожистому коридору.
На первой татуировке толстая голая деваха, неприятно напоминавшая Мэрилин, входила в горящую избу. На второй — она же пыталась удержать за задние ноги коня, которого хлестали плетками два монгола. На третьем — крича от боли, поднимала увесистого малыша лет трех-четырех на чем-то вроде продетого сквозь груди слинга... Кеша опять вспомнил про работу и наморщился.
Впрочем, чужая боль волновала даже несмотря на неприятные ассоциации. А может быть, именно из-за них. К тому же на последней татуировке жертва гендерного шовинизма выглядела моложе и привлекательней.
Кеша сам не заметил, как залюбовался чужим страданием. Стал слышен доносящийся сквозь балалаечную сюиту голос чтеца, как бы предъявляющий прошлому страшный неоплатный счет:
— Коня на скаку остановит... В горящую избу войдет...
Кеша вдруг похолодел. Он понял, что старушечий синклит вполне мог подключиться к его биодате — кто-то говорил, что это возможно, когда в фазе LUCID попадаешь в так называемую петлю, выглядящую как длинный изгибающийся коридор. Мемориальное пространство было организовано именно так. И сейчас эти три старые выдры могли видеть все его физиологические характеристики — давление, потоотделение, температуру, пульс, эрекцию. И у них, конечно, было приложение, способное сразу прорисовать его реактивные сигнатуры в сфере влечения.
Это была феменистическая подстава, засада аффилированных с властями бешеных лесбиянок, сканирующих чужие жизненные ритмы, чтобы набрать достаточно обвинительного материала для одного из тех отвратительных процессов, что так любят обсасывать в новостях. Такое случается постоянно. И, главное, он сам шагнул в ловушку. Надо же...
Долгий конспиративный опыт, однако, помог. Кеша знал, как уйти от опасности. Он быстро представил себе кучу дерьма во всех мелких необязательных подробностях — и глядел на нее до тех пор, пока не почувствовал отвращение. А потом он так же отчетливо совместил свою визуализацию сперва с горящей избой, потом с остановленным на скаку конем, а затем с продетым сквозь женскую грудь слингом — и расшэрил свое отвращение к увиденному, придав ему необходимую длительность и плотность. Испытав легкое подобие рвотного спазма и расшэрив его тоже, он быстро пошел по коридору вперед.
На татуировках вокруг было много интересного — иссечение клитора топорами, зашивание рта лыком и другие зигзаги корневого русского ужаса. Но Кеша не задерживался на этих картинах взглядом. Когда какая-нибудь из них попадала в его поле зрения, он вновь вызывал в себе омерзение. Даже его страх был кстати — он мог быть проинтерпретирован как здоровая реакция на увиденное... Если, конечно, кто-то действительно следил за его данными.
На выходе из мемориала он тщательно и горько, так, чтобы расшэрилось наверняка, покаялся за то, что он русский — и попросил доброе человечество извинить его за все то зло, которое русские оккупанты принесли патриархальной деревенской женщине.
Такое никогда не мешало.
Уведя наконец внимание из-под дряблой жреческой сиськи (кажется, пронесло — иначе просто не выпустили бы), Кеша с достоинством осмотрелся, глубоко вздохнул (что, не взяли, старые курвы) — и перенес внимание на публичный диспут, который слушала площадь.
Прямо под столом трибунала стояло двое диспутантов. Вернее, стоял только один — высокий фурри с собачьей мордой, поросший черной лохматой шерстью. Оппонент трибунала, бородатый мужчина в кожаном ошейнике, сидел на корточках, и фурри иногда начинал нетерпеливо крутить хвостом и дергал его за поводок. Кеша узнал в сидящем философа Яна Гузку. Слушать диспут целиком не было сил, и Кеша мигнул появившейся перед ним кнопке «abridge».