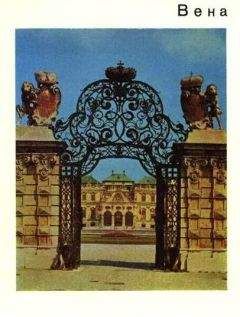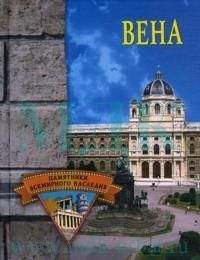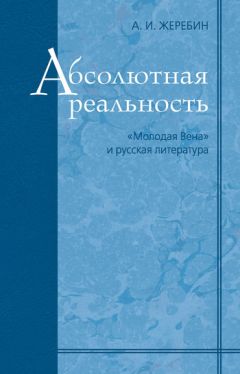Владимир Сорокин - Утро снайпера (сборник)
— Это план, товарищ Кедрин, это я так просто занимаюсь, для себя и для порядку, — поспешно ответил Тищенко.
— Где не надо — у него порядок. — Склонив голову, Мокин сердито разглядывал ящик. — Ты что, и бревна возле клуба отобразил?
— Да, конечно.
— Из чего ты их сконстролил-то?
— Тк из папирос. Торцы позатыкал, а самоих-то краской такой желтенькой… — Тищенко не успевал вытирать пот, обильно покрывающий его лицо и лысину.
— Бревна возле клуба — гнилые, — сумрачно проговорил Кедрин и, покосившись на серый кончик папиросы, спросил: — А кусты из чего у тебя?
— Тк из конского волосу.
— А изгородь?
— Из спичек.
— А почему избы разноцветные?
— Тк, товарищ Кедрин, это я для порядку красил, это вот для того, чтобы знать, кто живет в них. В желтых — те, которые хотели в город уехать.
— Внутренние эмигранты?
— Ага. Тк я и покрасил. А синие — кто по воскресеньям без песни работал.
— Пораженцы?
— Да-да.
— А черные?
— А черные — план не перевыполняют.
— Тормозящие?
Председатель кивнул.
— Вишь, порасплодил выблядков! — Мокин в сердцах хватил кулаком по столу. — Михалыч! Что ж это, а?! У нас в районе все хозяйства образцовые! В передовиках ходим! Рекорды ставим! Что ж это такое, Михалыч!
Кедрин молча курил, поигрывая желваками костистых скул.
Тищенко, воспользовавшись паузой, заговорил дрожащим захлебывающимся голосом:
— Товарищи. Вы меня не поняли. Мы и план перевыполняем, правда на шестьдесят процентов всего, но перевыполняем, и люди у меня живут хорошо, и скот в норме, а падёж, тк это с каждым бывает, это от нас не зависит, это случайность, это не моя вина, это просто случилось, и все тут, а у нас и порядок и посевная в норме…
— Футбольное поле засеял! — перебил его Мокин, выдвигая ящик и ставя его на стол.
— Тк засеял, чтоб лучше было, чтоб польза была!
— Веревкой стены конопатит!
— Тк это ж опять для пользы, для порядку…
— Ну вот что. Хватит болтать. — Кедрин подошел к столу, прицелился и вдавил окурок в беленький домик правления. Домик треснул и развалился. Окурок зашипел.
— Пошли, председатель. — Секретарь требовательно мотнул головой. — На ферму. Смотреть твой «порядок».
Тищенко открыл рот, зашарил руками по груди:
— Тк куда ж, куда я…
— Да что ты раскудахтался, едрена вошь! — закричал на него Мокин. — Одевайся ходчей, да пошли!
Тищенко поежился, подошел к стене, снял с гвоздя линялый ватник и принялся его напяливать костенеющими, непослушными руками.
Кедрин сорвал со стены вымпел, сунул в карман и повернулся к Мокину:
— А план ты, Ефимыч, прихвати. Пригодится.
Мокин понимающе кивнул, подхватил ящик под мышку, скрипя кожей, прошагал к двери и, распахнув ее ногой, окликнул стоящего в углу Тищенко:
— Ну, что оробел! Веди давай!
За дверью тянулись грязные сени, заваленные пустыми мешками, инвентарем и прохудившимися пакетами с удобрением. Белые, похожие на рис гранулы набились в щели неровного пола, хрустели под ногами. Сени обрывались кособоким крылечком, крепко влипшим в мокрую, сладко пахшую весной землю. В нее — черную, жирную, переливающуюся под ярким солнцем, по щиколотки вошли сапоги Тищенко и Кедрина.
Мокин задержался в темных сенях и показался через минуту, коренастый, скрипящий, с ящиком под мышкой и папиросой в зубах. Солнце горело на тугих складках его куртки, сияло на глянцевом полумесяце козырька. Стоя на крыльце, он сощурился, шумно выпустил еле заметный дым:
— Теплынь-то, а! Вот жизнь, Михалыч, пошла — живи только!
— Не говори…
— Природа и та радуется!
— Радуется, Петь, как же ей не радоваться… — Секретарь рассеянно осматривался по сторонам.
Мокин бодро сошел с крыльца и, по-матросски раскачиваясь, не разбирая дороги, зашлепал по грязи:
— Ну, что, председатель, как там тебя… Показывай! Веди! Объясняй!
Тищенко засеменил следом:
— Тк, что ж объяснять-то, вот счас мехмастерская, там амбар, а там и ферма будет.
Кедрин, надвинув на глаза кепку, шел сзади.
Вскоре майдан пересекся страшно разбитым большаком, и Тищенко махнул рукой: повернули и пошли вдоль дороги, по зеленой, только что пробившейся травке.
Снег почти везде сошел, — лишь под мокрыми кустами лежали его черные ноздреватые остатки. Вдоль большака бежал прорытый ребятишками ручеек, растекаясь в низине огромной, перегородившей дорогу лужей. Возле лужи лежали два серых вековых валуна и цвела ободранная верба.
— А вот и верба. — Мокин сплюнул окурок и, разгребая сапогами воду, двинулся к дереву. — Ишь распушилась. — Он подошел к вербе, схватил нижнюю ветку, но вдруг оглянулся, испуганно присев, вытаращив глаза. — Во! Во! Смотрите-ка!
Тищенко с Кедриным обернулись. Из прикрытой двери правления тянулся белый дым.
— Хосподи, тк что ж… — Тищенко взмахнул руками, рванулся, но побледневший Кедрин схватил его за шиворот, зло зашипел:
— Что, господи? Что, а? Ты куда? Тушить? У тебя ж воооон стоит! — Он ткнул пальцем в торчащую на пригорке каланчу. — Для чего она, я спрашиваю, а?!
Тищенко, тараща глаза, задыхаясь, тянулся к домику:
— Тк сгорит, тк тушить…
Насупившийся Мокин крепче сжал ящик, угрюмо засопел:
— Эт я, наверно. Спичку в сенях бросил. А там тряпье какое-то навалено. Виноват, Михалыч…
Кедрин принялся трясти председателя за ворот, закричал ему в ухо:
— Чего стоишь! Беги! К каланче! Бей! В набат! Туши!
Тищенко вырвался и сломя голову побежал к пригорку, через вспаханное футбольное поле, мимо полегших на земле ракит и двух развалившихся изб. Запыхавшись, он подлетел к каланче и, еле передвигая ноги, полез по гнилой лестнице.
Наверху, под сопревшей, разваливающейся крышей висел церковный колокол. Тищенко бросился к нему и — застонал в бессилье, впился зубами в руку: в колоколе не было языка. Еще осенью председатель приказал отлить из него новую печать взамен утерянной старой.
Тищенко размахнулся и шмякнул кулаком по колоколу. Тот слабо качнулся, испустил мягкий звук.
Председатель всхлипнул и лихорадочно зашарил глазами, ища что-нибудь металлическое.
Но кругом торчало, скрещивалось только серое, изъеденное дождями и насекомыми дерево.
Тищенко выдрал из крыши палку, стукнул по колоколу; она разлетелась на части.
Председатель глянул на беленький домик правления и затрясся, обхватив руками свою лысую голову: в двери, вперемешку с дымом, уже показалось едва различимое пламя.
Он набросился на колокол, замолотил по нему, руками, закричал.