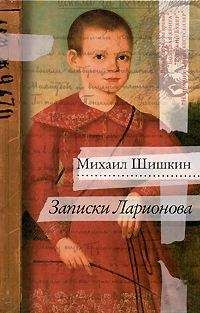Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Она заревела еще пуще.
— Я-то хочу, а вот Михайла ни в какую. Я, говорит, на тебе не женюсь, и не думай. Любовь, говорит, любовью, а жить я с тобой не хочу.
То-то Михайла накануне ушел в запой, чего раньше за ним не замечалось, и валялся теперь на сундуке в прихожей, изредка издавая жалобные стоны.
Я пытался утешить бедную Ульку как мог и обещал, как только он протрезвеет, во всем разобраться.
На следующее утро я растолкал его и стал допрашивать еще очумелого, непроснувшегося.
— Да как же, Александр Львович, я на ней женюсь? — чуть не зарыдал в свою очередь теперь Ми-хайла. — Вы только посмотрите на нее! Да чем с такой жить, лучше пойти сразу удавиться! Я ведь хочу, чтобы все по-людски было, чтобы девка красивая была, молодая!
— Так какого ж черта ты, сукин сын, сундук с ней давил?!
Михайла пожал плечами и, казалось, сам недоумевал теперь вполне искренне:
— Бес попутал, Александр Львович!
Я стал ему втолковывать про святость семьи, про силу брачных обязательств, про совесть, про достоинство и тому подобное. Он слушал, отвернувшись к стене и шмыгая носом. Потом буркнул сквозь зубы:
— Сами вы хороши, Александр Львович! Нина Ильинична дома хотела руки на себя наложить, а вам плевать.
Помню, в первое мгновение я рванулся ударить его, но сдержался, усмехнулся только и сказал ему:
— Ну что ты понимаешь! Иди лучше печку истопи, дурак!
В тот же день, когда я вернулся со службы, Михайла и Улька сидели вдвоем в людской за графинчиком, играли в подкидного и ворковали как два голубка.
На выходе из Кремля, у Ивановского монастыря я столкнулся с Татьяной Николаевной, женой Солнцева, у которого не был с того самого дня, когда ушел из их дома, хлопнув дверью.
— Милый Александр Львович, что же вы нас совсем забыли, — защебетала она. — Куда ж вы пропали? Мы все время вас вспоминаем, а нашей старушке вы совсем вскружили голову. Все никак вас не дождется. Нехорошо, нехорошо!
— Право, — растерялся я, — не думаю, чтобы Гавриил Ильич был рад меня видеть. Я был несколько дерзок и наговорил в прошлый раз всякой всячины.
— Пустое! Гавриил Ильич очень вас любит! Вас вспоминая, говорит все время: какой горячий хороший юноша! Заходите, заходите к нам по-простому, как раньше!
Она отпустила меня лишь с тем условием, что я снова буду приходить к ним обедать.
На Благовещенье я опять отправился к Солнцевым. Помню, что по дороге мне встретилась партия рекрутов, перепуганных, сбившихся в кучу, большей частью состоявшая из черемисов и вотяков, которых гнали через всю Россию убивать поляков.
В доме было тихо. Увидев меня, Татьяна Николаевна замахала руками и зашептала:
— Ради Бога, Александр Львович, не обижайтесь! Все одно к одному, как что-то не заладится. Гавриилу Ильичу нездоровится, и мы никого не принимаем.
Только я хотел откланяться, как дверь в гостиную распахнулась и на пороге появился сам Солнцев. Он был пьян и страшен. Он подошел ко мне, шаркая турецкими туфлями, на нем был толстый татарский халат и вязаные чулки.
— Прошу за мной, — сказал он голосом, не терпящим возражений.
Татьяна Николаевна смотрела на нас испуганно. Я пожал плечами и прошел к нему в кабинет, который весь был в книгах. Он уселся на диван и уставился на меня тяжелым пьяным взглядом. Я сел в кресло напротив него.
— Что сегодня за день? — вдруг спросил Солнцев.
— Благовещенье.
Он захохотал.
— То-то полиции прибавится сегодня работы!
— Отчего же? — не понял я.
— А это поверье такое существует: кто в этот день удачно украдет что-нибудь между утренею и обеднею, то может потом целый год воровать, не опасаясь, что его поймают.
Он вздохнул.
— Вот так-то, юноша.
— Смею заметить, Гавриил Ильич, — сказал я, — что я уже давно не юноша.
Он махнул рукой.
— Да какая разница! Ты мне, свет Александр Львович, все одно в сыновья годишься.
Солнцев вдруг схватил меня за шею, привлек к себе, прижался своей мокрой колючей щекой и зашептал на ухо, обдавая меня пьяным дыханием:
— Да ты разве жил? Ты и не жил еще, свет Александр Львович! Тебя, юноша, еще жизнь на зуб не пробовала!
Я вырвался из его объятий.
Он снова захохотал.
— Пей со мной! Не хочешь? Чванишься? Ну так я один выпью!
Я хотел встать и уйти, но он не пустил меня.
Какое-то время мы сидели молча. Потом он вдруг стал рассказывать про то, как его изгоняли из университета. Магницкий, получив донос о том, что лекции Солнцева основаны на разрушительных началах, велел устроить над ним университетский публичный суд. У студентов отобрали тетради, и целая комиссия во главе с Лобачевским сверяла записи студентов с рукописями, которые были изъяты у Солнцева, чтобы уличить его, если он что-нибудь выбросил. Комиссия исполнила поручение добросовестно и подготовила донесение о том, что нашла много расхождений. Устроители суда, среди которых были все товарищи Солнцева, даже разыскали студентов, которые давно уже служили учителями кто в вятской, кто в пензенской гимназии, и допрашивали их под присягой.
— А суд-то, суд! — кричал Солнцев, бегая по комнате в распахнувшемся халате. — Пальмин, мерзавец, которого я продвигал, которому помогал, составил двести семнадцать вопросных пунктов. Двести семнадцать! А мне, юноша, представьте себе, даже забавно было! Да-да, забавно представить себе, как это я войду к ним туда и они посмеют смотреть мне в глаза. И ничего, и в глаза смотрели, и в лицо говорили все, что полагалось, и вышвырнули меня из университета единогласно! А потом, после суда, по одному приходили ко мне прощения просить. Гавриил Ильич, говорили, подлость простить невозможно, но вы хоть по старой дружбе поймите обстоятельства, жалованье, семейство. А я зла на них не держу, нет. Я им простил. Даже не знаю, кто тот донос написал из них, а простил. Потому что подлость-то как раз как не простить!
— Что вы такое говорите, Гавриил Ильич? — не выдержал я. — Оттого и живем в подлости, что все друг другу прощаем!
— А я простил! И всю подлость человеческую прощаю! Всю, какая была, и всю будущую! Прощаю!
Я не мог больше слушать его пьяных криков, встал и ушел.
Известия из Польши становились все тревожнее. Вся Россия, затаив дыхание, следила за этой братоубийственной войной. Огромная русская армия перешла границы царства. Передавали слова Дибича, что кампания продлится ровно столько, сколько переходов от границы до Варшавы.
Вся польская армия была по крайней мере впятеро меньше русских войск.
Ненависть к русским была такая, что поляки вооружались всем, чем могли. Во всех кузницах оттачивали косы, ковали наконечники для пик.