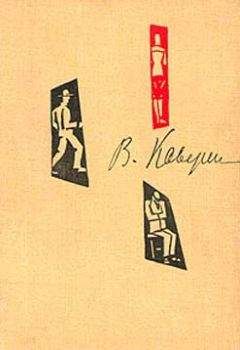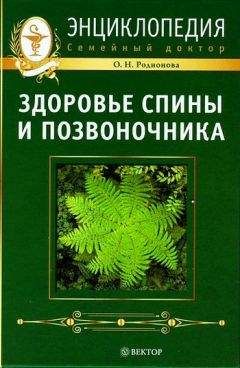Виктория Платова - Stalingrad, станция метро
Больше никто не назовет ее «блюмхен».
Можно, конечно, попросить об этом Праматерь, но вряд ли та отступит от своей наперсницы Элизабэтихи. Пирог с Шалимаром тоже отпадают. Ясно, что случится, когда Елизавета выйдет к ним навстречу с этим офигительным коммерческим предложением. Они начнут хихикать, закатывать глаза и подталкивать друг дружку локтями: «Ты только посмотри на себя, Лизелотта! Ну какой ты, к бесу, блюмхен, не смеши. В зеркало когда последний раз заглядывала?» Из Ильи и «здравствуй» не вытянешь, а о консерваторах-стариках и говорить нечего. Она для них — Лиза, Лизок, Лизаветушка, Лизавета Карловна. Поздно переучивать.
Но даже если бы кто-нибудь согласился звать ее «блюмхен», разве это исправит положение? Новый «блюмхен» будет отличаться от старого так же, как отличается живой, сидящий в клумбе цветок от своего пластмассового или тряпичного собратьев.
Мертвечина, мерзость.
Ангельские колокольчики вдали звучат намного реже. Один раз, чуть позднее — другой, и снова тишина. Обыкновенные трамвайные звонки, а она-то что себе вообразила? Непонятно только — это первый трамвай или последний?..
Комната такая узкая, что, протянув руку, Елизавета могла бы коснуться края тахты, на которой спит малявка Аркадий Сигизмундович. Избавившись во сне от одеяла, он лежит спиной к Елизавете, пижамная курточка задралась и видна часть крошечной смуглой спины. Он лежит спиной, а Праматерь — лицом. Лицо спящей Праматери не такое прекрасное, как обычно. Не безусловно прекрасное. Оно усталое. А самое удивительное состоит в том, что она (несмотря на внушительные габариты) занимает на тахте минимум места. Даже спящая, она старается не потревожить малыша. Спящая, она усмиряет буйствующую в ней страшно эгоистичную растительную и животную жизнь; прикладывает совершенный палец к совершенным губам, эй, вы там! Ну-ка, потише!
Даже спящий, малявка Аркадий Сигизмундович чувствует свою власть над Праматерью. Спящий, он попирает ногами цикад и птиц, орхидеи и папоротники; мнет маленькими пятками великую, необъятную Праматери-ну плоть, эй, вы там! Я здесь главный!
Край подушки давно промок от слез. Часть этих слез вполне объяснима и извинительна, а часть вообще не поддается никакому анализу.
— Приблудился, надо же, — думает Елизавета. — Повезло тебе, малявка!..
* * *…Праматерь Всего Сущего не всегда бывает права, зря Елизавета понадеялась на обратное.
Подрываться и валить из кинотеатра, не дождавшись окончания сеанса и гибели главного героя, не получается. Вот у самой Праматери это получилось бы наверняка, влегкую. Только она в состоянии ломануться к выходу, переворачивая кресла, опрокидывая ведра с попкорном, отдавливая ноги всем попавшимся ей на пути. Последствия этого перформанса интересуют Праматерь постольку-поскольку, блин-компот. Только она в состоянии свистеть и на весь зал комментировать происходящее на экране. Она вообще может заорать: «Эй, кинщик! Чё это за бодягу ты крутишь? Сворачивай нах свои хули-люли семь пружин!» И в девяносто девяти случаях из ста свет зажжется, и сеанс закончится без последующего продолжения. Последний, сотый, случай рассматривается Елизаветой в рамках допустимой статистической погрешности. Или (что вероятнее всего) механик в этом единственном случае просто оказался глухонемым. Или иностранцем, слабо ориентирующимся в тонкостях русского языка.
Пирог с Шалимаром тоже могут беспрепятственно покинуть зал во время сеанса: они красивые, но главное — худые, гибкие и грациозные, ведрам с попкорном ничего не угрожает. Более того, сидящий на крайнем в ряду кресле мужчина (штатный онанист кинотеатра) привстанет, откинет сиденье и вполне доброжелательно скажет: «Проходите, красавицы! А вы еще вернетесь?»
Застенчивой и закомплексованной толстой жабе такие подарки судьбы не светят. Она бы и рада выползти, но постоянно переживает о чужих стопах, икрах и коленях. Хорошо бы, конечно, побеспокоиться заранее и сесть на крайнее в ряду кресло. Но оно уже занято штатным онанистом.
В ее фильме ее герой всегда погибает, вне зависимости от того, какую копию привезли, — цветную или черно-белую. Жанр тоже не имеет никакого значения. Но, наверное, это трагедия.
С течением времени боль от потери Карлуши притупляется, и трагедия переходит в драму. Ниже планка не упадет, но жанровые ответвления все же возможны —
трагикомедия, мелодрама.
Елизавета все чаще вспоминает о живом Карлуше, не о мертвом.
Мертвого она и не помнит толком, все произошедшее в день похорон скрыто дождевой пеленой. Туманом. Хотя в тот день не было ни тумана, ни дождя, ни снега. Солнца, впрочем, тоже не было, — обыкновенный питерский пасмур, только и всего.
В последний момент, вняв словам Праматери, Елизавета отказалась от идеи с кремацией и развеиванием праха над Кельном. Карлуша нужен ей здесь и нужен теперь даже больше, чем она ему, — как раз тут Праматерь оказалась права.
Без нее Елизавете ни за что не удалось бы похоронить Карлушу так, как он того заслуживал. Он, конечно, вообще не заслуживал похорон и не заслуживал смерти, но… Что произошло, то произошло, поздно пить боржом, как выражается Праматерь, действуем исходя из предложенных обстоятельств.
Действуя исходя из них, Праматерь договорилась со своим другом на Северном кладбище о хорошем для Карлуши месте, в окружении приличных людей, а не каких-нибудь ипанашек и мудофелей. Слева — профессор консерватории, справа — инженер-судостроитель, а в ногах — доцент кафедры театроведения СПбГАТИ.
— Академия театрального искусства — это тебе не пес поссал, — вздохнула Праматерь. — Эх… Сама бы сюда легла, честное слово. Жаль только, умный разговор поддержать не смогу. А так — компания лучше не придумаешь.
Она заставила Елизавету разыскать записные книжки Карлуши — с телефонами всех его знакомых. Набралось человек пятьдесят, и Праматерь собственноручно пробила каждый номер. Оказалось, что семеро умерли, десять вообще не смогли вспомнить, кто такой Карл Эдуардович Гейнзе, еще пятнадцать вспомнили, но с трудом; четверо уехали в Америку, пятеро — в Израиль, еще пятеро (о, проклятье!) — в Германию, а один неделю назад был помещен в больницу с язвой желудка. Оставшиеся трое, включая вечного, как египетские пирамиды, Коку-Лёку, согласились прийти. Кока-Лёка был в списке последним. Ему последнему Праматерь и позвонила. И разговаривала дольше, чем со всеми остальными. А после, положив трубку, сказала Елизавете.
— Ну вот, одним выстрелом двух зайцев завалили.