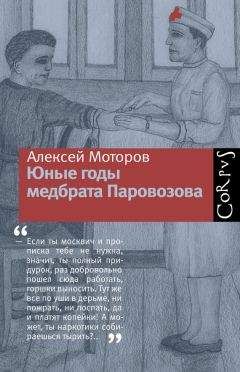Алексей Моторов - Преступление доктора Паровозова
Надо ли говорить, что на этом конкурсе мы заняли первое место, да еще с колоссальным отрывом от остальных. Конкурентов у нас и близко не наблюдалось.
* * *— Эх, мужики, как же я мечтал о гитаре! Мне она даже ночами снилась. И в школе мечтал, и когда в институт поступил. Но стипендия — сорок рублей, а мать — бухгалтер, оклад-то всего сто двадцать. Ничего, думаю, после третьего курса поеду в стройотряд, может, и заработаю. Вот вы говорите, в ГУМ ездили, вам от дома сколько добираться? Полчаса? А от моего Наро-Фоминска до «Лейпцига» — два часа в один конец. Ведь именно там «Музимы» продавались. А мне лишь «Музиму» подавай, ничего больше не нужно, хоть она и почти три сотни стоила. Меня в «Лейпциге» уже все продавцы знали, поиграть иногда давали. Так, душу себе разбередишь — и обратно, в Наро-Фоминск.
А в прошлом году двадцать лет стукнуло, юбилей как-никак. Все друзья собрались. Пришли кучей, книжку «Три товарища» вручили, мол, почитай о настоящей мужской дружбе. Ну, мы поржали, за стол сели, посидели хорошо, весело, потом гулять пошли, до двух часов ночи шатались, у меня ведь в конце мая день рождения, уже тепло совсем.
Утром открываю глаза, сам еще не проснулся, смотрю — а в углу около шкафа гитара стоит, свет через занавеску на нее падает, как будто рисунок на стене. Ничего себе, думаю, какой сон мне красивый снится. Потом как подбросило. Я с кровати соскочил — и к шкафу! А там и правда гитара, настоящая! Именно та, о какой только и мечтал! «Музима этерна люкс»!
Оказалось, друзья мои ночами вагоны на станции разгружали, деньги собирали. Поехали в «Лейпциг», купили гитару, и мать попросили спрятать. А сразу дарить не стали, решили сюрприз устроить, чтоб запомнилось. Вот такие у меня друзья, мужики.
Мы сидим в вожатской комнате и как завороженные слушаем Юрку Гончарова. Интересно, а мои друзья станут ради меня вагоны по ночам разгружать?
Ансамбля у нас было два, вожатский и пионерский. Между ними существовала здоровая конкуренция, которая ярче всего проявлялась на танцах. Вожатые играли песни своей тревожной юности, то есть по пионерскому мнению — безнадежное старье. Зато наш репертуар, тот, наоборот, состоял из шлягеров современных, где основная роль принадлежала моей партии соло-гитары.
Часть этих мелодий я разучил в нашем гитарном кружке, а кое-что пришлось подбирать на слух, когда сидел дома и вспоминал то, что слышал дома у Вовки Антошина.
Главный козырь мы выдавали на медленном заключительном танце, который неизменно объявлялся белым. Как-то чувствовалось, что после всех песен в исполнении вожатского коллектива о шепчущих березках, о шумящих кленах, о семи ветрах пионерам хочется услышать какую-то хорошую и жизненную вещь.
Тогда кто-нибудь из нас подходил к микрофону, оглядывал танцплощадку и важно произносил: — Последняя песня!
Сразу же начинался ропот, возмущение: действительно, время детское, как последняя, почему последняя?
Выждав какое-то время, чтобы дать утихнуть протестующим, следовали два слова:
— Белый танец!
Возмущение сменялось обрадованно-смущенным вздохом.
И после паузы еще два слова, которых все ждали с замиранием сердца:
— «Больничные палаты»!!!
Тут раздавался шквал ликующих голосов, свист, аплодисменты, и мы приступали.
Вступление было круче, чем у Deep Purple, моя гитара ревела, а бас с ударными лупили в унисон, создавая тревожное настроение. Затем, через четыре такта, Балаган выходил на середину и начинал голосить:
— Больничные палаты,
Где ты лежишь и как ты? —
Такой вопрос девчонка задает. —
Ах, если б можно было
Тебе подняться, милый,
Родной и дорогой мальчишка мой!
Дамы наперебой приглашали кавалеров, а некоторые, чтобы не пропустить ни одного слова, стояли и просто слушали.
Во всем я виновата,
Тебя вчера ребята
Поранили ножом из-за меня,
А я-то и не знала
И честно не встречала
Таких, как ты, нигде и никогда!
Тут следовал мощный переход, а затем с новой силой, уже хором, выдавался припев, который подхватывала вся танцплощадка:
А кругом весна, а кругом ручьи,
А у тебя беда, а у тебя врачи!
Успех был ошеломляющим, девочки первого и второго отряда плакали навзрыд, а в финале моя партия соло-гитары так скребла по нервам, что приводила в восхищение всех, даже дачников — так мы называли ребят-москвичей с окрестных дач, которые приходили к нам на танцы.
Сибирская язва
— Представляешь, тут мой сынок кролика притащил. На той неделе на даче услышал писк за забором, а там кролик. То ли бросили, то ли сам убежал. Пришлось взять его, подкормить, подлечить. Похоже, он долго на улице был, весь худой, ободранный, ужас!
Мы с Маринкой Веркиной сидим в реанимации, в крохотной комнатке для персонала, курим и чаевничаем. Реаниматологи — люди зажиточные. У них и электрический чайник имеется, и посуда, и даже плитка маленькая.
— Так у тебя что, Веркина, — спросил я, бросая третий кусок сахара, — дача есть?
— Есть, правда, не моя, а Сашкина, вернее, его деда. В Кратове. Он же у него старый большевик, вот и дача тоже ему под стать, старая, ремонта требует, весь участок зарос, не дача, а джунгли какие-то.
— А говорили, что старых большевиков всех давно под корень извели. — Я сидел ждал, пока чай остынет. — Товарищ Сталин еще до войны постарался.
— Ну, значит, не всех, — задумчиво произнесла Маринка. — Дед до сих пор жив, между прочим. Ему зимой девяносто шесть будет. Хотя он на дачу редко приезжает, все в Москве больше торчит. Как с утра в поликлинику придет свою на Сивцевом Вражке, так и спит там до вечера. А мы, наоборот, еще в том году в Кратово перебрались, да и кошкам моим с собаками лучше, есть где порезвиться, у нас участок хороший, двадцать пять соток.
— Ничего себе! — Я уважительно присвистнул. — Двадцать пять соток в Кратове! Такую дачу тыщ за двадцать долларов можно загнать.
— Ну, двадцать не двадцать, она ж говорю, старая. Даже если и двадцать, то все равно продавать жалко. Сашка ведь там все детство провел, каждую сосну на участке знает. Слушай, а сколько кролики живут? Вроде недолго?
— Это у нормальных хозяев недолго, а ты, Маринка, реаниматолог. Кроме того, может, он долгожитель какой, ну, типа деда вашего!
— Вот умеешь ты подбодрить, — усмехнулась она, — мало мне двух собак, восьми кошек, так еще и кролик-долгожитель на мою голову.
Маринка вздохнула, закурила, стряхивая пепел в майонезную банку, а я стал прихлебывать остывший чай.