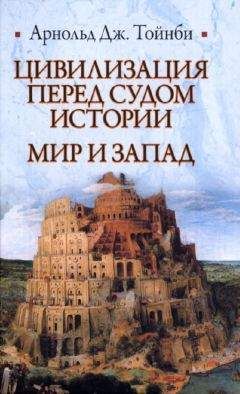Халед Хоссейни - И эхо летит по горам
— Легко тебе говорить.
— Ну, может. И все ж не забывай, Нила — женщина мстительная. Прости за эти слова, но именно так у нас все и закончилось. Она поразительно мстительна. Так что я знаю, о чем говорю. Будет непросто.
Пари вздохнула и закрыла глаза. От мысли о разговоре с маман скрутило живот.
Жюльен погладил ее по спине:
— Не обижайся.
Пари позвонила на следующий день. Маман уже знала.
— Кто тебе сказал?
— Коллетт.
Ну разумеется, подумала Пари.
— Я собиралась тебе сказать.
— Я знаю. Вот, говоришь же. Такое не скроешь.
— Ты сердишься?
— Это имеет значение?
Пари стояла у окна. Пальцем рассеянно водила по синей кромке старой, битой пепельницы Жюльена. Закрыла глаза.
— Нет, маман. Не имеет.
— Н-да, вот бы могла я сказать, что это не больно.
— Я не хотела.
— По-моему, это очень спорно.
— Зачем мне делать тебе больно, маман?
Маман рассмеялась. Полый, мерзкий звук.
— Смотрю я на тебя и не вижу себя в тебе. Естественно, не вижу. Это, понятно, не неожиданность, в конце концов. Я не знаю, что ты за человек, Пари. Я не знаю, кто ты, на что ты способна по крови. Ты мне чужой человек.
— Я не понимаю, что это значит, — произнесла Пари.
Но мать уже повесила трубку.
Фрагмент из «Афганской певчей птицы»,
интервью с Нилой Вахдати
Этьенн Бустуле
«Параллакс-84» (Зима, 1974), стр. 38
ЭБ. Вы французский здесь выучили?
НВ. Мама учила меня в Кабуле, когда я была маленькой. Она со мной говорила только по-французски. Каждый день занятия. Когда она уехала из Кабула, мне было очень тяжко.
ЭБ. Она уехала во Францию.
НВ. Да. Мои родители развелись в 1939-м, когда мне было десять. Я у отца единственный ребенок. Мой отъезд с ней даже не обсуждался. И я осталась, а она уехала в Париж к своей сестре Агнес. Отец попытался смягчить для меня эту потерю — занял меня частным преподавателем, верховой ездой и уроками живописи. Но мать ничто не заменит.
ЭБ. Что с ней сталось?
НВ. О, она умерла. Когда нацисты пришли в Париж. Ее не убили. Убили Агнес. А мама, она умерла от пневмонии. Отец не говорил мне, пока союзники не освободили Париж, но тогда я уже знала. Знала — и все тут.
ЭБ. Трудно, наверное.
НВ. Невыносимо. Я любила мать. Я собиралась жить с ней во Франции после войны.
ЭБ. Полагаю, вы с отцом не очень ладили.
НВ. Между нами существовало напряжение. Мы ссорились. Довольно много, что для него было внове. Он не привык, когда ему перечат, тем более женщины. Мы ругались из-за того, что я ношу, куда иду, что говорю, как говорю, кому говорю. Я становилась все дерзче и наглей, а он — все аскетичнее и эмоционально суровее. Мы превратились в естественные противоположности.
Она хмыкает, затягивает узел банданы на голове.
НВ. А тут я еще и принялась влюбляться. Часто, безнадежно и, к ужасу моего отца, не в тех, в кого надо. То в сына домработницы, то в какого-то безродного госслужащего, возившегося с отцовыми делами. Безрассудные, беспутные страсти, все обреченные с самого начала. Я организовывала тайные встречи, смывалась из дома, но, конечно же, кто-нибудь непременно сообщал отцу, что меня видели где-то на улицах. Ему говорили, что я развлекалась, — всегда им нравилось это слово; я-де «развлекалась». Или еще говорили, что я «выставляюсь напоказ». Отец отправлял за мной поисковую партию. Сажал меня под замок. На несколько дней. Говорил мне из-за двери: «Ты меня унижаешь. Зачем ты меня унижаешь? Что мне с тобой сделать?» Иногда отвечал сам себе на этот вопрос — ремнем или кулаком. Гонялся за мной по комнате. Видимо, думал, ему удастся испугать меня и так покорить. Я много писала в то время — длинные скандальные стихи, истекавшие подростковой страстью. Довольно мелодраматические да и истеричные к тому же, увы. Всякие птицы в клетках, любовники в кандалах — вроде того. Не горжусь ими.
Есть ощущение, что ложная скромность — не ее стихия, а значит, такова ее честная оценка тех ранних работ. Если так, она изуверски строга к себе. Ее стихи того периода поразительны даже в переводе, особенно с учетом ее тогдашнего возраста. Они трогают, они богаты образами, чувствами, проницательностью и выразительным изяществом. Они великолепно говорят об одиночестве и неудержимой печали. Они описывают ее разочарования, взлеты и падения юношеской любви во всем ее блеске, обещаниях и ловушках. И в них же часто проявляется ощущение запредельной клаустрофобии, схлопывающегося горизонта и всегда — борьбы с диктатурой обстоятельств, часто изображенной в виде безымянной устрашающей мужской фигуры. Нетрудно разглядеть в ней не слишком завуалированную аллюзию на отца. Говорю ей все это.
ЭБ. В своих стихах вы ломаете рифму, ритм и размер того, что, насколько я понимаю, есть классическая персидская поэзия. Вы применяете свободный поток образов. Возвышаете случайные, повседневные детали. Насколько я могу судить, тогда это было вполне революционно. Справедливо ли будет сказать, что, родись вы в стране побогаче, скажем, в Иране, — могли бы почти наверняка прославиться как литературный новатор?
Она сдержанно улыбается.
НВ. Представьте себе.
ЭБ. И все же меня довольно сильно поразило то, что вы сказали ранее. Что вы не гордитесь теми стихами. А вам вообще ваши работы нравятся?
НВ. Опасный это вопрос. Наверное, я бы ответила утвердительно, если б могла отделить их от самого творческого процесса.
ЭБ. В смысле, отделить результат от средств.
НВ. Творческий процесс — неизбежно занятие воровское. Копните под любое прекрасное литературное произведение, месье Бустуле, — и обнаружите все мыслимые бесчестья. Творчество — намеренное осквернение жизни других людей, превращение их в невольных и нечаянных участников. Вы воруете их желания, мечты, прикарманиваете их недостатки, их страдания. Берете то, что вам не принадлежит. И делаете это осознанно.
ЭБ. И у вас отлично получается.
НВ. Я делала это не ради каких-то возвышенных представлений об искусстве, а потому что не имела выбора. Потребность была слишком мощна. Если б я ей не сдалась — сошла бы с ума. Вы спрашиваете, горжусь ли я ими. Мне трудно щеголять чем-то, обретенным сомнительными с моральной точки зрения средствами. Я предоставляю другим решать, хвалить это или нет.
Она допивает вино, выливает остатки из бутылки себе в бокал.