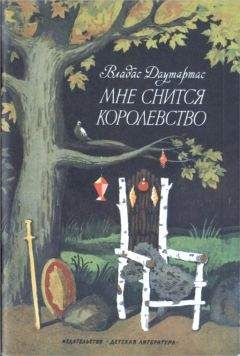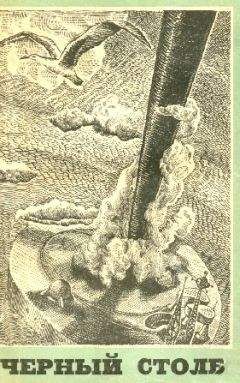Ирина Дудина - Пение птиц в положении лёжа
Пастельная мгла, постельная мгла.
Безжалостные дворники в оранжевых куртках надоедливо борются с белоснежностью только что выпавшего. Сыплют соль на раны, нанесённые белому покрову грязными каблуками человеческой телесно-серой толпы. Серое оставляет на белом серый свой след. Почему так? Почему цвет человечества — серый, а не какой иной, ведь кожа человеческая ближе к розовому, и красен он своим материалом изнутри, и бел…
Ослепительная белизна снежного иглистого меха на спинках стоящих на обочине машин завораживает. Чистит глаз, загрязнённый серым, подобно слезе.
А самое белое — в артериях каналов. Уж такое белое, такое белое… Даже гранитные набережные, вся их червячно-розовая вертикаль, забрызганы опереточно-ватными снежками, перемежающимися зеленоватыми соплями льда. Дед Мороз, активно поработав с белой краской, высморкался? А кое-где и… Несколько жёлто-серых промоин у берега живописно оттеняют сказочную, тянущуюся до горизонтов белизну…
О чём писать?Задумалась, о чём писать? Вышла б я замуж в 19 лет, что бы было… Писала б я тогда… О чём? Вдруг откуда-то выплыло:
Была б я верная супруга
И добродетельная мать —
О чём бы стала я писать?
Наверное, писала бы детективы, с убийством через каждые десять страниц, через каждые пятьдесят — групповое убийство. Описывала бы проделки серийных убийц, живописала бы повреждения, не совместимые ни с какими нормами морали.
О припоминании«Что-то с памятью моей стало.
То, что было не со мной, помню…»
— Какой гениальный текст, — сказала Ира. — Представь, вдруг поэт, написавший эти строки, пошлый поэт, скучный, социалистический, без всяких там культурных корней, без знания тех богатств, которые нарыло до него человечество, — вдруг он внезапно ощутил что-то этакое. И отразил это в стихах. Нет, не потерю памяти — это неинтересно, банально как-то. А её метаморфозу. Вдруг понял, что в его памяти присутствует иное. Неоплатоником стал внезапно. Понял, что познание мира — это всего лишь припоминание. Припоминание о чём-то важном, о нужном, но чужом. О чужом каком-то, из чужой, другой жизни. О жизни вне себя, до себя…
Сергей заметил:
— То-то. Я всю жизнь пытаюсь припомнить что-то важное в математике. И всё никак припомнить не могу.
— Во-во. Да и я тоже. Всё что-то припоминаю. Что-то припоминаю. И тоже — никак. Без толку.
— Ну и что же ты припоминаешь?
— Пытаюсь вспомнить, какой я должна быть. Какой задумал меня Господь Бог? С трудом вспоминается.
Любовь как припоминаниеПришёл Сергей. Неулыбчивый. А чего ему улыбаться — такая жизнь у него.
— Знаешь, я из-за тебя гомосексуалистом стал…
— Как это? Только этого ещё не хватало!
— На Невском ко мне юноша подошёл. Красивый такой. Волосы, как у тебя, — золотые кудри какие-то, а не волосы. И глаза, как у тебя. И нос. И губы. Ужасно на тебя похож. Стал знакомиться. Приставать. Предложил пойти с ним. Я смотрю на него, а вижу тебя. Так мне тоскливо стало, так ужасно тоскливо без тебя. Всю-всю тебя вспомнил. И пошёл. Там, в одной тёмной парадной, он расстегнул мне ширинку и… Я гладил его золотые волосы и думал, что это ты, как будто ты…
Сидя под грибомСидели под потешным грибом-фонтаном в Петергофе. Вдруг вспомнила Сергея. Он так любил всё неземное. Лизал жаб, сосал кактусы, прицеплял к себе шпанских мух, ел поганки, перепробовал все виды наркотиков. И ещё страдать любил. Так любил страдать. «Мне ничего в жизни не надо — только пострадать. Я очищаюсь от страданий. Поэтому я в дурдоме. Есть ли на свете уголок тошнее? Есть ли ещё место для медитации столь полноценное?»
Снег сыпал и сыпал, таял и таял. Земля была тепла. Снег сохранялся лишь на мёртвом — на кучах палых листьев. Там уже была белая припорошенность, ожидающая своей смерти. Первый (второй) снег, падший на падшее. Падишах. Падаль на падали.
Петергофские мужики лепили камни в берег. Делали стену. Под стеной снега.
Посетителей в Петергофе было человек 7. Я с детьми. Мужчина с сыном — дурацкий рыболов, не нашедший, где поудить в стене снега. Молодая мать с маленькой, яркой, как жук, дочкой. Вот и всё. И снег. И деревья. Красивые. С ветвями, размером с молодое деревце.
Меланхолия. Остриё волшебства. Рождение зимы. Роженица — старуха осень, кряхтящая почернелым телом. Рожает, рожает белое. Никак. Тает. Тает. Кристаллы, обречённые на смерть.
Под грибом. Сидим. В шляпке, по окружности, трубочки откусанные. Трубчатый вид гриба. Из них летом — струи воды. Гриб, превращающийся в зонт с частыми стоками для воды. Хорошо под грибом, посреди снега и воды.
Залив в зимеСправа от незамерзающего ручья, впадающего в залив, где зеленел лёд от промоин, таяло облако. Свинцовая хмарь ползла сверху, высыпая из себя одиночество пушинок.
В залив врезался мол. Он безмолвствовал. Лишь щётка кустов щекотала зимний воздух. Одно, лишь одно дерево росло посередине мола. Небольшое, не старое, но и не молодое. Просто одно. Это было красиво и соразмерно. Одно дерево на моле.
Валуны, летом облизываемые бледным языком залива, ныне были покрыты нагромождением пластов льда. Небольшие пирамиды. Ледяные противотанковые сооружения. Против ледяных танков озверевшей Снежной королевы.
Слева тарелка залива была девственно пуста. Пуста и белоснежна, выдавая тайну, что небо серое. Красивый гризайль. Гризетка, ещё не украсившая фон ничем. Стиль гранж.
Полезные советы нелюбимому мужчинеЯ сказала ему:
— Как хотела бы я отправить тебя в клуб «69»!
— Зачем?
— Чтобы тебя там жестоко оттрахали. В жопу оттрахали со страшной силой. Чтобы ты стал усталым пидером. А потом в рот. А потом опять в жопу. И опять в рот…
Он тихо застонал, закатив свои глазки цвета гноя к своему обоссанному, разваливающемуся потолку, в потёках каких-то и сталактитах и сталагмитах из облупившейся штукатурки.
— Зачем? — спросил он. — Зачем тебе всё это?
— Ну… — Я задумалась… — Ну, мне незачем. Я о тебе забочусь — чтобы ты стал привлекательней. Чтобы обрёл самого себя. Почувствовал себя со всех сторон. Принёс всестороннюю пользу. Хоть кому-то доставил удовольствие. Ты же никогда и никому не доставлял удовольствия в своей жизни, не правда ли? Ты — никакой какой-то… Невзрачный. Отсутствующий… Ты не можешь выйти из своего «я» и проникнуть на территорию другого позитивно, чтобы тому радостно стало…
Ф. продолжал тихо стонать и скрежетать почернелыми от никотинового налёта зубами. Впрочем, зубы у него были неплохие — крепкие ещё.
Вечером я рассказала Маше о разговоре с Ф. Она внимательно выслушала мои рекомендации для Ф. Особенно о том, чтобы оттрахали сначала в задницу, потом в рот, потом опять в задницу и т. д. — много раз подряд…
— Ой, — сказала она, и в понизившемся голосе её послышалась скрытая дрожь. — А можно вместо него меня отправить в клуб «69»?
— Зачем? — спросила я её, не понимая, о чём она…
— Я тоже так хочу — то в задницу, то в рот, то в задницу, то в рот, много раз…
О вакуумеТы знаешь, а главное — у меня нет, совершенно нет религиозной основы. Моё сердце пустотно. В нём нет уважения к себе. О, Бога я люблю! Я боюсь его гнева. Я лебезю перед ним. Душа чиста изначально, и всё-то правильно она знает. Что хорошо, что плохо. Я всегда мучилась от стыда и мук совести. Я сильно мучилась. Я долго, упорно говорю «нет», я преодолеваю себя, я заставляю себя преступить. Я содрогаюсь от ужаса, оглядываюсь на пустотность моей жизни, на безжизненную пустыню под названием «жизнь», на эти покрытые льдом пески, на это отсутствие фигур, на этот мрак и холод, эту страшную темень, в которой я живу. Бесы предлагают мне согреться у своего огня. Они похохатывают от удовольствия и потирают руки. Они говорят — выбирай! И я всегда делаю насилие над собой. Я делаю шаг навстречу. А душа? Что ж, душа обязана трудиться. Только от меня зависит превратить беседу с попутчиком или встречу с незнакомцем в нежное шептание двух душ. Только от меня…
Да, душа моя жаждет чистоты и правды. Но это — не от уважения к себе и любви к себе. Нет, этого во мне совсем нет. Одно самоуничижение, дико разросшееся на пустыре жуткой гордости. Я сплошная горизонталь — никакого насилия и противопоставления, никакой воли своей, своеволия. Жестокое божество опалило меня с детства моего. Я подчиняюсь ему безропотно. Вместо того чтобы абстрактно петь в пустоту, невостребованной, стиснув зубы, петь, я сникаю, вяну и не пою месяцами и годами. Где, где воля? Где упорство? Где тупое долбание в одну точку, где кропотливый, упрямый труд — несмотря ни на что? Дьявол ли искушал меня, или Господь испытывал? Я ни одного экзамена не сдала на 5.
Голос Бога отсутствовал во мне. Вера слаба, или сдохла, или отсутствовала изначально, или стыдно было верить, или больна вера тяжким тифом, в бреду вера… Вынут стержень был из меня. Только внешнее, только мир извне был ориентиром моим и богом, которого я стремилась слушаться. Ничего внутри. Одна пустота и пустыня, один вакуум. Никакого перста указующего.