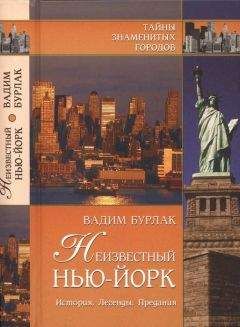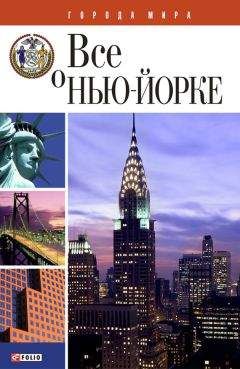Алексей Шельвах - Приключения англичанина
Из дневника переводчика
Я тут перед Новым годом по заведенной привычке разбирал свой архив и обнаружил листок с планом этого повествования, давненько уже, надо сказать, составленный: ну там, в каком порядке должны быть расположены новеллы, куда и какое автобиографическое отступление поместить и т.д., и т.п. И вот я вижу, что до конца первой части осталось не так уж и много. Боже, как я счастлив! Я ведь сколько уж лет, пока занимался текстами отца, все боялся, что не поспею к себе нынешнему, не успею совпасть со временем, в котором живу. Понимаете, я же очень долго обретался сразу в трех временах одновременно, если можно так выразиться. Переводя, допустим, новеллу про сэра Тристрама или про другого какого-нибудь предка, пребывал как бы в лунатическом состоянии, то есть был совершенно уверен, что и сам живу в те отдаленные времена. Взявшись писать о своем детстве-отрочестве или о любви к Л.Б., переживал заново и детство, и отрочество, и любовь эту самую. Когда же закрывал рукопись, то начинал жить настоящим: ходил на работу, исполнял, как мог, супружеские обязанности, встречался с друзьями...
Но еще каким-то ведь образом существовало (существует!) и время фиников, время неведомое, грозное, всегда грядущее! Где оно: вне меня или в подкорке, линейное оно или цикличное, – не знаю! Не знаю, но, памятуя о трагических судьбах предков, я совсем не уверен, что успею рассказать о себе...
Поэтому, пока не поздно, спешу вставить сюда собственное сочинение, пусть незавершенное, но и в таком виде, как мне кажется, уместное и даже необходимое композиционно. Я задумал его еще в армии, а записал вскоре после демобилизации. Это такая попытка запечатлеть пережитое, ну и осмыслить, по мере сил, разумеется.
Ладно, чем ходить вокруг да около, давайте, что ли, читать.
«С верхней полки я испуганно озирал заваленные снегом просторы средней полосы. В каждом вагоне, в каждом купе будущие мои однополчане бряцали бутылками, рвали горло и струны. Было нас человек пятьсот, из Ленинграда призванных, и все завывали: «Йестердей!», или «Гёрл! Гёрл!», или рычали: «Солдаты гр-р-уппы «Центр-р-р!»
На третий день запасы спиртного иссякли. Пытались купить водку у проводника, тот и не прочь был продать, но лейтенант Енко не позволил и даже срывающимся петушиным отчитал несознательного.
Вообще свободы довольно скоро стали удушаться. Кого-то назначили дневальным, кого-то заставили мыть заблеванный пол. Запрещено было шляться по вагону ночью. Кого-то уже грозились посадить на «губу», как только прибудем в часть.
С каждой минутой нам все больше хотелось домой. Тосковали: по двое, по трое запирались в туалете – давились зеленым одеколоном «Шипр», запивая сгущенкой. Помню, с перекошенным рылом выскочил в тамбур, чтобы перекурить это дело – над белой равниной медленно поднимался серый Уральский хребет.
Поезд вдруг остановился.
– Прыгай! – закричал лейтенант Енко. – Это приказ! Приказы выполняют, не обсуждая!
Я замер на краю вагонной площадки. Сзади напирали. Из других вагонов уже сыпались.
Я зажмурился, прыгнул и провалился в армию с головой.
Очнулся в нательном белье, в коконе потном, в койке. Ангина со мной случилась, я не мог толком и слова вымолвить, трясся в ознобе.
Я лежал в метре от входной двери, на самом сквозняке. Дневальный под красной лампочкой тискал гитару, подбирая на одной струне небезызвестную английскую песенку: «If there anybody going to listen to my story?»
Дин-дон-дили-дон… Неужели соотечественник? Но какой странный акцент… Неужели соотечественник? Вот так история...
– Дневальный!.. – прохрипел я. – Земеля… What’s your name?
– Чо? – спросил дневальный, склоняясь над распростертым англичанином, как русский медведь с балалайкой.
– Дневальный...
– Ну чо ты?
– Дверь прикрой... сквозит. Болен я.
– Через пять минут подъем. Потерпишь. Свежий воздух тоже нужен. Вона как набздели за ночь.
И снова дин-дон-дили-дон, и хлопья снега, крупные, как голуби мира, кружатся над улицей Фурманова, о морская зима, о циклон атлантический, бисером ртутных капель покрыты стены домов, и дочь губернатора идет по другой стороне, она в зеленом пальтишке с откинутым капюшоном, у нее локоны как желтые слабые пружинки, и пламенные пухлые губы, и глаза как лед...
Такой запомнилась – встретил ее накануне отправки – прошла мимо, не заметив.
– Рота, подъем!!! – как резаный орал дневальный.
Мы соскакивали с коек, метались туда и сюда, натягивая штаны на голову, гимнастерки на ноги, вылетали из казармы с раздутыми мочевыми пузырями (как продавцы воздушных шаров)...
«Привет, Федосей. Вот решил тебе написать, потому что времени свободного навалом, я в лазарете, заболел ангиной плюс еще кое-что подцепил. Понимаешь, сразу по прибытии повели нас в баню, где вода была чуть теплой и сквозняки цапали за голые икры, как взбесившиеся кошки. На другой день проснулся с клубком колючей проволоки в горле, мышцы болят, кости ноют, в общем, свет не мил. И вдобавок, страстное желание чесать шею и плечи. Сделал все-таки вместе с остальными зарядку, но на политзанятиях в душной ленкомнате стало мне совсем худо. Мокрый от пота, чесался как мартышка. В перерыве обратился к сержанту, за неимением голоса жестами показал, что нуждаюсь в медицинской помощи. Сержант отвел меня в санчасть, где я, пунцовый от смущения, обнажил шею перед хорошенькой синеглазой медсестрой (в тугом черном свитере и сахарно-белом халатике внакидку). Синеглазка подала мне лист чистой бумаги и спросила: «Расческа есть?» Я кивнул. «Давай чеши голову». Я выполнил ее требование, и тотчас на бумагу высыпалось несколько мелких, розовато-коричневых насекомых. Сержант, лишь только увидел их, осклабился: «Зачем же ты мандавошек с собой в армию прихватил? На память о любимой?» Синеглазка, хохоча, стала хлестать его полотенцем и выгнала, а меня заключила в келью три на три метра, с умывальником, столом и кроватью, то есть изолировала от общества. «Жди, сейчас доктор придет», – сказала она и ушла. После бедлама казармы сия келья показалась мне райским уголком. Во-первых, пространство для одного человека огромное. Во-вторых, тишина. Только почему-то отключено паровое отопление, хотя на дворе минус тридцать. Итак, за стенкой булькал в трубах кипяток, а я через минуту застучал зубами от холода. Впрочем, через две минуты пришла синеглазка и принесла электрический обогреватель. Вслед за нею явился молодой, баскебольного роста, доктор-старлей. Синеглазка смотрела на него снизу вверх с обожанием. «Откуда призван?» – осведомился доктор дружелюбно. Узнав, что из Ленинграда, просиял: «Я же заканчивал вашу академию!» и, чтобы не оставалось у меня сомнений в том, что он действительно пожил какое-то время в Ленинграде, добавил, понизив голос: «Эдита Пьеха, между прочим, в рот берет». Я промолчал. «Ну ладно, – вздохнул доктор, – показывай, что там у тебя». Я разделся до пояса и показал ему до крови расцарапанные плечи и шею. Тут вошла пожилая женщина-монголоид в белом халате и сапогах и приказала снова чесать голову над бумагой. Я чесал, насекомые сыпались. «Типичная лобковая вошь!» – возмущенно воскликнула пожилая. Я с не меньшим возмущением указал пальцем на свое темя – мол, какая же лобковая? она же вон откуда упала! «Ты что, немой?» – удивилась пожилая. «Ангина у него, Марьям Касымовна», – пояснила синеглазка. «А если ангина, так нечего по бабам шастать», – отрезала Касымовна. Старлей подмигнул мне: «Ух, сильны ленинградцы! Вас же только вчера привезли, и уже успел сходить на сторону!» Синеглазка подхалимски хихикнула. Все же было решено уточнить класс и вид моих насекомых, поэтому одного из них (одну?) унесли на зеркальце под микроскоп. Касымовна, уходя, окинула меня презрительным взглядом. Под халатом у нее была офицерская гимнастерка темно-зеленого сукна. Какое-то время я снова побыл в одиночестве. В келье стало теплее, но меня бил озноб. К тому же, я теперь чесал еще и затылок, чистосердечно недоумевая, откуда могли взяться у меня лобковые вши. Ну откуда, если я только о Лидке последние месяцы и думал, а других девчонок просто не замечал? Одиночество мое было нарушено появлением гражданского старичка с добрым, цвета свеклы, лицом и упреждающим запахом алкоголя. Старичок имел при себе портфельчик, из которого извлек машинку для стрижки волос, ножницы и бритву. Остриг и обрил меня всего: голову, грудь, подмышки, живот. Потом под его наблюдением я сам состриг себе волосы на мошонке. «А ты шустрый пацанчик, шустрый, – приговаривал старичок. – В первую же ночь сориентировался! Небось, в поселок бегал? Так вот, знай: поселок етот на месте расформированного лагеря стоит. И живут в ём бывшие зечки. Они, конешно, для тебя уже старые. Но дочки ихние и внучки тоже все бляди и приститутки». Из-за отсутствия голоса я не был в состоянии убедить его, что понятия не имею, где расположен этот кошмарный поселок, смиренно помыл выбритые места и смазал их вязким серым веществом, каковое целитель мой называл «ртутной мазью» (красивое название, но не думай, что мошонка моя ныне лучится зеркальным блеском – мазь, повторяю, серая). Старичок оставил мне целую баночку этого вещества, наказав намазываться в течение трех дней. Когда он ушел, я снова предался размышлениям – на сей раз о том, что означает случившееся со мной, в смысле не каверза ли это все тех же... Ладно, о них в другой раз. Итак, я задумался, а когда очнулся, то увидел на столе перед собой сучащую лапками розовато-коричневую букашку! Откуда же, проклятье, она свалилась? Ну не с Луны же! Но ведь и не с лобка же!