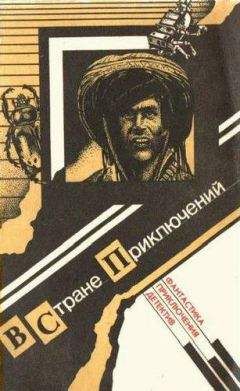Глеб Горбовский - Первые проталины
А Павлуша, смекнув, что шофер едет в нужном направлении, в сторону Кинешмы, решил попытать счастья: не подбросит ли дядя за троячок до берега Волги?
Княжна, конечно же, опередила Павлушу с одеванием: пока он за кустами трусы выкручивал и на одной ноге прыгал, вытряхивая из уха водичку теплую, непрошеную, Таня уже грелась в своем шерстяном ярко-синем платье, обхватившем ее фигурку, как пластырь, мертвой хваткой.
— Поедем, Таня, в Кинешму, а? Вечером вернемся…
— Чего там делать? У меня с собой ни копейки.
— Поехали. Придумаем что-нибудь… У меня такие новости интересные: мать, оказывается, жива! Вернее, в блокаду-то она вовсе не умерла. Вывезли ее, понимаешь? Хорошие люди. Наверняка живая еще! Как ты думаешь?
— Вот бы здорово! Только непонятно… Война-то уж закончилась. Если живая, почему тогда молчит? А что, Алексей-то Алексеевич знает про это самое? Про то, что живая она?
Павлуша рот уже раскрыл, чтобы отца обвинить, заругаться на него, но почему-то не посмел.
— В том-то и дело, что не знает он ничего… Вот мы его в Кинешме и разыщем, в роно сходим, узнаем, где он остановился. Скорей всего — в Доме крестьянина. Он любит в Доме крестьянина останавливаться. Поехали, а?
— А тебе-то кто сообщил про маму?
— Сообщили… Ты что думаешь, писем я не получаю?
— Не получаешь. За почтой теперь я хожу.
— Не твое дело. Сообщили, и все! Сорока на хвосте принесла… — Очень уж не хотелось ему про Лукерьины признания распространяться, про все эти тайны семейные, непонятные, ради разъяснения которых он и рвался сейчас в Кинешму, к отцу, потому что не было терпения носить в себе радость и одновременно обиду на то, что радость эту от него скрывали так долго.
— Ну что ты, миленький… Не злись. Рада я за тебя не меньше других. Поедем, конечно. Хоть я и маму не предупредила. В Гусихе почту на обратном пути заберем. Завтра ходить не надо будет. Только вот деньжат бы…
— Есть деньжата. Взял я из дому. Лукерья снабдила. И тебя в ресторан свожу, вот! Как в кино. Была не была! Шоферюгу бы уговорить. Чтобы он нас подбросил до переправы. Предложи ему трояк. Тебя любой козел послушается, только рот раскрой.
Польщенная Княжна не замедлила применить свою улыбку и, одарив ею сначала Павлушу, понесла ее животворящие чары в сторону грузовика, где, освежившийся и помолодевший, набрасывал на себя черную от масляных пятен гимнастерку шофер «студебеккера».
Павлуша не слышал, о чем они там поговорили, но вскоре увидел, как Таня часто-часто замахала ему рукой, приглашая в кабину. Сама она сразу же полезла на подножку, а затем и на сиденье вскарабкалась и рядом с шофером, с его рычагами да педалями уселась.
«Нужно было мне рядом с шофером. Измажет он ей платье… и вообще», — мелькнуло соображение в голове парнишки.
Ехали медленно. Дорога состояла из одних ям и перекосов. Казалось, сверни с нее и поезжай целиной или напролом лесом — будет лучше, спокойнее. Машина стонала, огромная тяжесть давила на все ее железные и стальные кости. Казалось, конструкция рано или поздно не выдержит и скелет машины рассыплется, но ничего такого ужасного не происходило: фронтовая закваска вездехода как раз и сказывалась, не давая автомобилю издохнуть или хотя бы захандрить. В кабине было чисто. Шофер попался некурящий и малоразговорчивый. В самом начале он только спросил Княжну, дернув головой в Павлушину сторону:
— Братишка? — давая тем самым понять, что за старшую он принимает именно ее, а не кудлатого пацана с переносицей, обсыпанной деревенскими, не отмытыми за лето веснушками.
Километров за пять перед Волгой выбрались на булыжное шоссе, старинный тракт, уходящий в костромские леса сквозь бывший Семеново-Лапотный уезд, мимо знаменитого теперь Щелыкова, овеянного славой великого русского драматурга Островского. По булыжнику ехали, как по воздуху, тряски после проселочной болтанки и вовсе как бы не ощущалось теперь. Другим концом тракт этот, как бугристая кожа гигантского змея, выползая из леса, свешивался к самой волжской воде, обрываясь на крутом спуске, забитом лошадьми с телегами, машинами, людьми, собаками, дожидающимися с кинешемского берега парома.
Еще далеко от Волги, на подъезде к ней, в открытую, с приподнятым лобовым стеклом кабину «студика» принесло ветром живой, неповторимый запах реки. Пахло водой, немного рыбой, рогожей, пеньковым канатом, смолой-варом, пропитавшим борта многочисленных лодок, водорослями гниющими, отбросами, фруктами, овощами и, конечно же, нефтью, ее производными; пахло землей, через которую веками прогоняла река свое тело; пахло небом, солнечным и дождливым; пахло жизнью. Запах Волги. Воздух Волги. Целебный, воскрешающий душу, если она занеможет на чужбине или еще в какой неволе; воздух надежды и памяти, истории нашего государства, воздух дружбы, объединившей судьбы людей с долей человечнейшей из рек Волги-матушки…
Выйдя из машины и сразу позабыв о переворошившей все внутренности дороге, Павлуша жадно уставился на открывшуюся его глазам ширь. Волга… Сколько он слышал о ней. И не в школе, в которой толком и поучиться-то не успел, и не от механических экскурсоводов — просто от людей, от жизни самой наслышался. Песни, стихи, чистые улыбки, когда люди имя этой святой для русского человека реки произносили… Случайная открытка с пейзажем, на котором свечкой — белая церковь над зелено-светлой долиной, реки торчит…
Павлуша так искренне вглядывался, радуясь видению, так навстречу реке устремился, что более уравновешенная Княжна обратила на это внимание, обошла Павлушу со всех сторон, в глаза ему заглянуть успела, а потом и за руку потянула.
— Павлик… Да что ты, миленький?! Проснись. Смычка подходит. Ты чего-нибудь забыл, да? Денежки небось? Так ты наплюй! Обойдемся… Морячка, которому билеты предъявляют, я тоже уломаю. Пропустит нас и так. Только проснись, пожалуйста. Чего уж ты так-то? Мне боязно, миленький.
— А, чего? — встрепенулся наконец. — Стою смотрю! Хорошо! Все хорошо, прекрасная маркиза! — Павлуша даже ботинком притопнул и некое коленце изобразил, хотя плясать в прибрежном песке было ему не с ноги. Обнявшись с Княжной, пошли они к сходням, а Павлуша тем временем уже другую, питерскую песенку напевал:
Дворник улицу метет — Сережа!
Он танцует и поет! — Ну и что же?
Очнулся Павлуша на каменном полу, по которому бегали какие-то шелковистые серые насекомые. Луч солнца, пройдя насквозь решетку маленького, не имеющего стекол оконца, вонзился в цемент пола прямо перед носом лежавшего. Пахло хлоркой, как в общественной уборной.
На деревянном топчане, поджав под себя ноги, сидел сморщенный, круглолицый, узкоглазый старичок азиатского происхождения. Старичок неотрывно следил за движением солнечного луча, который хоть и медленно, а все ж таки перемещался по полу, упрямо подбираясь к веснушчатому носу паренька, распростертого на цементе. Когда осторожный луч решил все-таки дотронуться до лежащего и тот, вздрогнув, проснулся, желтенький старичок на топчане неожиданно громко захихикал тоненьким злобным голоском.
Павлуша резко приподнял свое туловище и, упираясь в пол руками, стал с нескрываемой ненавистью рассматривать старичка, не пустившего его, Павлушу, на нары или спихнувшего его ночью оттуда, как паршивую собаку.
— Твоя пила много вчера, — заулыбался старичок пуще прежнего, не раскрывая потаенных глаз. — Твоя сам лег под нары. А моя поднимать не моги тяжелое… Моя гришу имеет в животе.
Павлуша, сообразив, что попал он скорее всего в милицию и находится сейчас в камере предварительного заключения — капезе, несколько собрался внутри, ощетинив силенки и ощутив себя как бы на прежнем, доотцовском режиме. Опыт подсказывал, что в камере необходимо сразу же заявить о себе как о «законном» пацане, воре, которому море по колено и тюрьма — мать родная. Старику хорошо бы сразу же в лоб дать. Иначе он так и будет мораль ему читать да хихикать, как ненормальный.
Павлуша хотел стремительным броском, по-кошачьи, со всех четырех «лап» приподнять себя от пола, но вчерашнее ресторанное разгуляйство изжевало его жиденькие, не закаленные трудовым опытом мускулы, внесло в них инфекцию страха, нерешительности. Однако же к деду он подскочил довольно резво и за грязный, рифленой вязки, бесцветно-серый воротник шерстяного свитера ухватиться успел.
— Ты это что же, падла! По-сонному — человека на пол кидать?!
И вдруг — боль! Острая, отвратительная, парализующая руку. Старичок сделал какое-то едва уловимое движение, что-то неладное сотворив с Павлушиной рукой.
— Ты что?! — заорал парнишка, пустив голосом петуха. — Дорвался?!
— Моя прием применила, — невозмутимо пояснил старичок. — Давай научу, хочешь? Гляди, башка, запоминай. Пригодится другой раз. Моя твоя за горло берет, понял? А ты — раз! — и мала-мала делаешь мне больно. Вот так. Моя твоя за руку берет, понял? А ты — раз! — и делаешь мне больно. Вот так. Моя твоя за брюхо берет, понял? А ты — раз! — и делаешь мне козья морда. Моя твоя обнимает, в клещи берет, а ты — раз! — и я землю кушай.