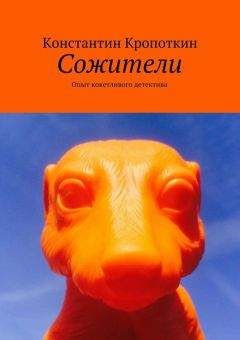Константин Кропоткин - …и просто богиня
Рита могла бы следовать рисунку своей жизни (она — сова, он — вынужденный жаворонок), но вставала с бренчащими осколками сна головой, шла, и цветочки блеклые колыхались над лоснящимся теменью паркетным полом, и кофеварка сипела.
Она хотела начинать свой день вместе с ним, зная точно, что с мелкого разнобоя начинается жизнь порознь. Она будет спать, он бодрствовать; она будет глядеть своему компьютеру в силиконовые бездны, а он сползет с дивана и, объявив (опять обычное) „я удаляюсь“, уйдет в спальню, со спины напоминая сытого гуся. А ночи ее будут длиннее, а дни его все дальше. С Сергеем у нее начиналось так — а потом она влюбилась, а потом развелась и долго-долго убеждала себя, что все правильно, и хорошо, что не успели они завести детей, благоразумно, хотя она стареет, часы ускоряются, еще немного и на нее будут смотреть с жалостью, словно у нее кособокая грудь или пятно в пол-лица.
От Сергея Рита хотела детей. Двойню даже (хотя и двойная тяжесть, и двойные риски — все вдвойне). И сейчас, уже бросив его, она думала, что ей бы нравилось узнавать в маленьких рыжих ребятишках и эту манеру подпирать рукой подбородок (все пальцы в кулаке, а мизинец торчит, чуть касаясь кончика носа) и шаткость походки (у него кривоватые ноги).
Хотела, но уже не могла. Ушла, развелась, не жалела.
— А хочешь я подую тебе в ухо? — спрашивала Олега Рита, оживая от кофе через минуту-другую.
Или:
— Зачем тебе один нос? Почему?
Или:
— Если я тебя тоже брошу, перекрась стены в кабинете. Лучше в красный. Красный — это значит кровь, значит, ты страдаешь.
А Олег отвечал: то так, то сяк. Для Риты было главное сказать что-то, обозначив границу между сном и явью. А Олег мог и улыбнуться, и покраснеть, и остаться сидеть, как был (надо спросить у него „сволочь ли он?“, неужто и тогда просто улыбнется?). Рита спрашивала, чувствуя равнодушие: он — такой болезненно любимый — с утра, после бредовой ночи, не вызывал у нее ровно никаких чувств и собственная бесчувственность ее утешала. Ей было покойно, как бывает, должно быть, покойно мучительно больным, измученным этой болью и чувствующим вдруг, ранним ватным утром, только муть пустоты.
Не может же она любить его всегда/круглосуточно?
Не может.
Детей от него она не хотела. Боялась, наверное, множить боль.
— Как же мне все это надоело, — сказал Олег тем утром, натягивая поверх костюма свое серое пальто.
К нему на три дня приехали важные гости. Сегодня он снова должен был их развлекать: забрать из гостиничного лобби, возить куда-то, что-то показывать…
— А ты не думаешь, что это единственное, ты отлично умеешь делать? — прислонившись к стене, спросила она.
— Какая ты умная.
По его улыбке она не смогла ничего прочесть.
— Иронизируешь?
— Нет, я серьезно. А ты? — он уже взялся за ручку двери.
— Не знаю, — сказала она.
Она не знала, почему задала ему этот вопрос. Она просто смотрела на него и ей захотелось спросить.
— Я тебе надоела? — она подошла к нему, обняла и прижалась щекой к его щеке.
— Нет, наоборот, — сказал он, послушно замерев.
— А себе я надоела. Но скоро пройдет. Правда?
Он улыбнулся. Он вряд ли ее понял.
— …если я уйду, потому что, ты знаешь, всякое бывает, — в другое утро закончила она обычной своей формулировкой, повторяла которую, как молитву, и никто — даже мнимый бог — не знает по-настоящему, почему.
— А если ты уйдешь, то мне тогда точно хватит, — сказал Олег обыкновенным своим голосом, и эту обыкновенность Рита постаралась запомнить, потому что тогда уже поняла, что, пересказывая, вспоминая, придумает ему и легкую в голосе дрожь, и увлажнившиеся чуть-чуть, набравшие в синеве, глаза, хотя говорил он обыкновенно, не строго даже, будто скрывая чувство, а очень просто, без всяких затей. — Если ты уйдешь, тогда мне точно хватит. Больше никого.
— Почему? — спросила она, удивляясь искренне, честно не понимая, почему он, здоровый, молодой, красивый мужик, готов записать ее последней в ряду жен-любовниц (скорее, жен, какая ж она ему любовница?). Молодой ведь, кра-сивый…
— У нас же с тобой все идеально, — сказал Олег, не пытаясь убедить, ничего не утверждая, а фиксируя факт, равный вещественности жизни — вот, хотя бы этой кружке с кофе, в которую сунула она нос, будто бы принюхиваясь.
Олег утверждал то, чего Рита не знала, в чем уверена не была. Они любили друг друга, сомнений быть не могло — Рита любила его любовью болезненной, обожженной, Олег любил ее уверенной властной любовью — и из комбинации этой получался не только пламень, но и много чада, который он, твердокаменный, привычный замечать только самое нужное, игнорировал, от которого она, ошпаренная драная кошка, часто чихала. Они были вместе, они говорили „мы“, но Рита — и не только вслух! — проговаривала: „может быть, ненавсегда“. Ни в чем уверена она не была, на взгляд ее, не были их отношения идеальны, они только стремились в том направлении — страстно и опасливо с ее стороны; невозмутимо, медлительно, уверенно — таким был его вклад.
— Но это не значит, что я хочу уйти, — сказала Рита, отглотнув кофе. — Я ничего уже не могу исключать. Однажды я уже обещала вечную любовь, однажды я уже обманула. Я больше не хочу никого обманывать.
— Я понимаю, — сказал Олег. Он улыбнулся, блеснули отбеленные зубы, и Рита выругала себя — она всегда уступает, она позволяет ему это самодовольство, хотя он в той же степени должен быть не уверен, что у них надолго, что у них — навсегда.
Она опять уступила. Он опять не заметил уступки.
Рита не верила ему, она ему не доверяла — и с этим ничего невозможно сделать. Идеально, ну, как же идеально? вела он с ним мысленный спор тем же днем, оставшись одна, в блеклых цветочках. Чего хочет она, эта глупая дура? Что нужно ей, идиотке? Чего не хватает этой встрепанной Маргарите? Вы знаете? Кто-нибудь? Ну, подойдите же к ней, кто-нибудь! Пожалейте, скажите же ей: дурочка, он любит тебя, у вас идеально, я вижу, я знаю, все именно так, как он сказал — чтобы спал наконец с души ее камень, чтобы вздохнула, дохнула — и зажила, и в другое утро, готовя кофе и бутерброды, с легким сердцем подтрунивала б над ним, у которого все — „идеально“, не боясь ничего, просто зная — также, как он…».
Такое счастье. Другого не будет.
КАК ЕСТЬ
И ЭТО ЭПИЛОГ
Я долго не мог определить природу ее обаяния.
Оно не во внешности. Черты лица у нее, скорее, неправильные. Фигура стройная, но ничем особо не выдающаяся, волосы кудрявые, темные, но такие негустые, что видно белую кожу. Она немного сутулится при ходьбе, шагает широко, и потому туфли предпочитает на платформе, а не на каблуке. Горделивая козья походка, этими мелкими шажками, ей несвойственна.
Если приглядываться, то легко заключить, что она некрасива, но не случайно я медлил целый абзац, прежде чем высказать это предположение. Мне неприятно говорить, что она некрасива, мне кажется, что я шлепаю на ее лоб (кстати, просторный даже излишне) штемпель, а он ставит вроде бы крест на ней — некрасивой, а потому по-женски, вроде бы, не очень значимой.
Глупости. Неправда. Че-пу-ха.
Она обаятельна, чрезвычайно обаятельна.
Прежде я думал, что обаяние ее в глазах — они у нее большие, удивленные будто. Распахнутые. Она смотрит, и внимает. Кажется, что она усваивает каждое твое слово, показывая в улыбке неровные белые зубы.
Она тороплива, спешит и вечно не поспевает, но умеет слушать: замирает, перестает трепыхаться. Она интересуется тобой, но обаяние ее не совсем в этом.
Ей хочется помочь.
Есть люди, которым приходится помогать — они беспрестанно ноют о сирости своей, убогости — и ты готов уже дать что угодно, лишь бы прекратить эту зубную боль.
Есть люди, которым хочется помочь просто так. Ты желаешь им помочь, повлиять на судьбу, не потому что они нужны, полезны. «На, — спешишь сказать ты, — возьми же, пользуйся, мне приятно думать, что моя помощь кстати; мне хорошо, если хорошо тебе». Ты помогаешь, и сам внутренне хорошеешь от этого шага; ты удивляешься себе, надо же я могу быть бескорыстен — я делаю что-то просто так, поддаваясь внутреннему порыву, без оглядки и без всякого расчета. Не все кончено со мной, не потерян я, и не потерялся.
Вот в чем, наверное, дело. Ты прикасаешься к чужой жизни, и тебе становится лучше. Ты будто смотришься в зеркало, которое показывает тебя лучше: ты говоришь и под пытливым вниманием слова получаются красивей, точней, глаже. Ты чувствуешь, что все внимание только для тебя — и эти распахнутые глаза, эта улыбка, которой не годится слово «вежливость», эти вопросы, заданные по делу, и выводы вслух — неожиданные даже для тебя самого.
Искренность — вот оно, верное слово. Простое и верное. Обаяние человечности. Красота, как она есть.
Мы с ней в Москве вместе жили и прекрасно ладили. Она моя подруга. Лучшая. Теперь я понимаю почему.