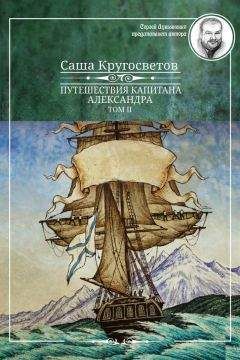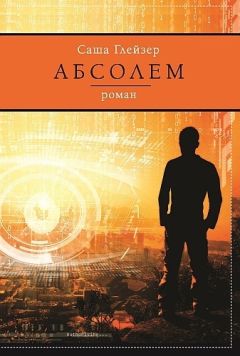Саша Окунь - Камов и Каминка
Наконец, минут через пятнадцать, они оказались в большой комнате, напоминавшей прихожую. Под непривычно высоким потолком тускло горели три рожка люстры чешского производства пятидесятых годов. В нишах на канелюрованных колонках стояли мраморные античные головы. Из комнаты в разные стороны вели три коридора.
Наконец художники Камов и Каминка получили возможность разглядеть своего спутника. Это был невысокого роста мужчина в короткой черной накидке с откинутым капюшоном. Ноги в темно-красных рейтузах были обуты в красные кожаные остроносые сапожки. В вырезе отложного воротника, лежащего на груди, обтянутой темно-зеленой рубашкой с широкими рукавами, курчавились густые, тронутые сединой черные волосы. На серебряном поясе, перетягивающем талию, висели небольшой кинжал и связка ключей. Человек, словно стряхивая пыль, провел украшенными перстнями пальцами левой руки по вьющимся волосам и поклонился:
– Бенвенуто, на ваш лад – Бени.
– Саша, Михаил, – хором ответили художники Камов и Каминка.
– Добро пожаловать, синьоры, – учтиво сказал Бенвенуто. – Нам сюда.
Они вошли в левый коридор, вдоль стен которого, словно в гостинице, тянулись двери.
У второй с левой стороны он остановился, поставил фонарь на пол, снял с пояса связку, отыскал нужный ключ и открыл дверь:
– Прошу вас.
В комнате стояли две кровати, шкаф, стол, несколько стульев.
Бенвенуто поставил на стол фонарь. Открыл его, достал свечу и запалил трехсвечный подсвечник, стоявший на столе. Затем задул свою свечу, вставил ее назад в фонарь, закрыл стеклянную дверцу:
– Располагайтесь, синьоры, и чувствуйте себя как дома.
Художники оглянулись. В углу около небольшой двери висело большое зеркало.
– Удобства. – Бенвенуто кивнул в сторону двери.
На столе стояли кувшин, пара тарелок, хлеб, сыр, ветчина, корзиночка с грушами, оплетенная бутыль, два старинных бокала.
– Это вино, вода и немного еды подкрепиться. Если понадобится электрический свет, – он показал на лампочку под потолком, – пожалуйста. Выключатель у двери. Я, знаете, все никак не могу к нему привыкнуть, предпочитаю свечи, но… – Он улыбнулся. – Вот, пожалуй, и все. Отдыхайте, утром за вами придут.
– А где мы? – робко спросил художник Каминка.
– Завтра, – сказал Бенвенуто – Завтра. Покойной ночи, синьоры.
– Спасибо, – пискнул ему вслед художник Каминка.
Дверь захлопнулась.
Какое-то время они стояли молча, потом художник Камов прислонил к шкафу лыжи, снял ушанку, стянул ватник, повесил их на вешалку у двери, взял кувшин и пригубил.
– Кажется, кьянти, – неуверенно сказал он после некоторого раздумья. – Налить?
Художник Каминка кивнул. Струя темно-красной жидкости ударила в дно бокала и вспенилась у краев фиолетовым кружевом. Художник Каминка поднял бокал, принюхался, неуверенно сделал глоток и улыбнулся: это было здоровое, прямое, честное, солнечное вино. Он удовлетворенно почмокал, поглядел бокал на свет, опять понюхал, прополоскал рот вином и проглотил:
– Пожалуй, кьянти.
Некоторое время они сидели молча. Первым молчание прервал художник Камов:
– Ты заметил, что здесь нигде нет окон? И еще, этот Бенвенуто… – Он замолчал и спустя несколько мгновений прошептал: – Тени-то у него нет, и в зеркале он не отражается, я специально посмотрел…
Художник Каминка поежился и промолчал.
* * *Ночью художнику Каминке приснился расположенный на склоне крутой горы, окруженный каменной стеной старинный город. Город этот был ему хорошо знаком, ибо видел он его во снах регулярно, порой по два, а то и по три раза в год. От главных западных ворот, расположенных в стене близко к южной оконечности города, наверх, туда, где в юго-восточном районе располагался самый роскошный и богатый район с соборами, музеями и дворцами, вел широкий Соборный бульвар. Уходящие от него налево две широкие улицы, Верхняя и Нижняя, поначалу особенно Верхняя, тоже выглядели весьма впечатляюще, с барочными и ренессансными палаццо, площадями, фонтанами, деревьями, но чем дальше улицы забирались на север, тем проще, беднее становились дома: атланты и кариатиды, нарядная орнаментика, лепнина, газоны с цветами, деревья – все это осталось позади, – и обшарпанные каменные фасады с заплатами закрытых ставен и наглухо закрытыми высокими воротами монотонно тянулись вдоль покорябанной брусчатки мостовой. Унылую, безнадежную перспективу, обреченно тянувшуюся к горизонту, слегка оживляли цветные пятна сохнущего на натянутых между домами веревках белья. Изредка попадались непритязательные бары да продовольственные лавочки с несколькими ящиками помидоров, артишоков, картошки, лука, апельсинов у входа и чесночной гирляндой над дверью.
На этот раз Каминка не пошел ни в музей, ни в Кафедральный собор, хотя помнил, что в соборе есть роскошные фрески, какие точно – он запамятовал, помнил только, что было это нечто похожее на всю русскую живопись, вместе взятую, с большой дозой суриковской боярыни Морозовой в смеси с «Явлением Христа» Иванова. Не помнил он также, что именно есть в музее, который располагался в старом, требующем ремонта дворце, помнил только, что собрание было очень недурное, вроде коллекции штутгардтского музея, которую он тоже не помнил.
Войдя в город, он свернул налево и медленно пошел по Нижней улице вдоль темных, молчаливых домов с огромными рустованными камнями первых этажей, с выступающими далеко вперед карнизами, плавно уплывающими за его спину, освобождая место другим, таким же каменным, с такими же плотно затворенными ставнями и редкими, затянутыми шторами открытыми окнами. Улица была пустынна и молчалива. Ни тебе фырканья мотоцикла, ни людского или птичьего голоса, даже его собственные шаги почему-то были совершенно беззвучными, словно не касался он ногами булыжников, между которыми пробивались трава и еще какие-то мелкие растения, а плыл над мостовой.
Чем дальше, тем приметы времени становились заметнее. Где-то, обнажая кирпичную кладку, облупилась штукатурка, где-то вылезла арматура балконов. У одной из кариатид, поддерживающих архитрав углового дома, где он свернул направо, на руке статуи не хватало трех пальцев, и она печально смотрела пустыми глазами в белесое небо. Художник Каминка прошел в гору минут пять и сразу за домом с большим патио, где в тени апельсиновых и лимонных деревьев стояли старинные саркофаги, а в центре журчали струи фонтана, льющиеся из большой мраморной раковины, которую поддерживали четыре бронзовых дельфина, свернул в кафе, где он регулярно пил аперитив каждый раз, когда ему снился этот сон. Кафе это, очевидно, знавало лучшие времена. Чем-то оно напоминало большие кафе Триеста, где еще сохранились следы австрийского влияния, давнишнего настолько, что пообтерлась зеленая кожа диванчиков, потускнела бронза люстр и канделябров, облез лак венских стульев. У входа, рядом с будкой, где висел на стене старинный, черный, с круглыми пожелтевшими отверстиями диска телефон, стояли аппарат для продажи сигарет и музыкальный ящик с двумя рядами черных шеллаковых пластинок. В баре было, как всегда, пусто. Диагональ солнечного луча с дрожащими внутри него сияющими пылинками, пробиваясь через узкую щелку между портьер высокого окна, меланхолично ласкала голубоватый овал мраморного столика на замысловатой чугунной ножке. За стойкой хозяйка, высокая женщина, лет сорока пяти, со смуглым лицом, над которым возвышалась небрежно собранная копна черных волос, протирала бокалы. Женщина приветливо улыбнулась вошедшему:
– Здравствуйте, маэстро, здравствуйте! Рада вас видеть! Вы здоровы и благополучны? – Она подвесила сияющий бокал и поставила на стойку рюмку для хереса. – Как всегда?
– Как всегда, синьора Франческа, как всегда, – ответил Каминка, всем своим существом предвкушая приятную, из сорта ни о чем и обо всем, беседу, на которую синьора Франческа была большая мастерица.
Женщина бросила в рюмку дольку лимона, достала с полки бутылку олоросо и…
Что снилось художнику Камову, мы не знаем. Судя по улыбке, прячущейся в густой седой растительности его лица, нечто приятное. Но что бы оно там ему ни снилось, сон этот, так же как и сон художника Каминки (ровно в тот момент, когда он приготовился пригубить любимый аперитив), был бесцеремонно прерван громким, с наигранным возмущением интонирующим слова баритоном:
– Нет, братцы, да сколько же можно дрыхнуть? Я уже третий раз заглядываю. А вы тут, ну прямо, ха-ха, словно мертвые.
От бесцеремонного смеха художник Каминка открыл глаза: посреди комнаты, раскинув обтянутые тельняшкой руки, стоял Саша Арефьев.
– Крестишься? – засмеялся он, глядя на побледневшего Камова, привставшего на постели. – Не бойся, Мишка! На, потрогай! – И, подскочив, заключил художника Камова в объятия.
Разбуженный художник Каминка предпринял ряд мер, которые, как ему представлялось, нужно совершить человеку, чей рассудок отказывается ему служить. Сперва он зажмурил глаза, но, когда он открыл их, видение не исчезло. Напротив, очевидно довольное произведенным эффектом, оно радостно стучало по спине и раскачивало, словно тряпочную куклу, болтавшегося в его руках художника Камова.