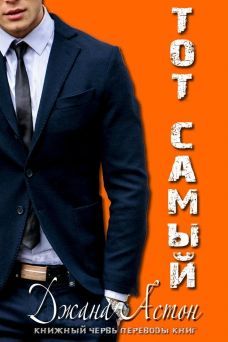Владимир Личутин - Сон золотой (книга переживаний)
Они жили где-то на недосягаемом краю света, где много зверя-песца, лисицы и волка, куропотей и рыбы нельмы, муксуна, гольца, пеляди, сига (от одного перечисления рот наполняется слюнкой), где стоят чумы и бродят олени, может в Амдерме иль Каратаихе, куда лихие мезенские мужики, махнув рукою на постылое житье, нет-нет да и кидались за нажитком, как в омут головою. Иные, правда, возвращались заматерелые, с широкими повадками, в шевиотовых костюмах, с деньгами и рассказами о необычной жизни на диких северах, где нет начальственной руки, но «реки полные вина». Вот этот спирт, наверное, и сбил дядю спанталыки. Про него я краем уха слыхал от матери, что дядюшка где-то проторговался, немного посидел, а всему причина вино, что губит даже самого доброго мужика, и, дескать, зря тетя Аниса выскочила за пьяницу. К мужикам, любящим наступить на пробку, мама относилась всегда излишне сурово, как староверка, иль теща-костериха, окрикивала, бранила и оговаривала, поджимая сухие губы, словно бы видела перед собою великого грешника, при этом глаза её застилало тоскою, ибо сама навряд ли оприходовала стопку, если слить в граненый стакашек всю выпитую за долгую жизнь водку. И вот дядя Глеб нежданно накатил с верховьев, – наверное гостился у заозерской родни, – на гнедухе, в овчинной шубе с курчавым воротом, пыжиковой шапке и белых, с начесом, бурках. Ого-го! Писаный красавец, так в Мезени одевается только высокое начальство, человека два-три, кому «ватенная» фуфайка и подшитые, с обсоюзками катанцы не по чину.
Дома, ещё в крыльце, обдало меня свежей хвоей, июльским лугом. Мама сидела возле печи, погрузив ноги по колени в голубую кадцу, и парила суставы. Значит, её снова загрызал ревматизм. Когда становилось невмочь, она смазывала колени керосином, заматывала шерстяными тряпками, а когда и это не помогало, заливала кипятком сенную труху с чердака и еловые лапки. Но в комнатушке, увы, ничто не напоминало моего дня рождения, от чего ушел в школу, к тому и вернулся: не было на столе, покрытом клеенкой и заляпанной чернилами, ни пирожков с солеными волнухами, ни воложных колобков, ни «картовных» шанег, о которых я только и думал на уроках, – значит, мама совсем махнула на меня рукою. Мне стало так грустно, хоть плачь. Я мельком потрогал печь, она была студеной. Душу немножко отпустило. Значит, мать грела самовар для кипятка.У мамы было распаренное, багровое лицо, как после бани, по вискам тек пот, влажные волосы «скомались», взгляд потусторонний.
«Мама, дядя Глеб приехал. Такой важный... Я сам видел».
«Приехал и приехал. Тебе-то что с того, – равнодушно откликнулась мама на мое известие. – Ты, парень, лучше занеси мне дров, а то я совсем расклеилась».
Я притащил охапку мерзлых ольхушек, розовых на спиле, сердито, с грохотом кинул у печи.
«Осторожней бросай-то, – прикрикнула мама. – Весь дом разнесешь, пустой человек! Один ехал Глеб-от, иль с Аниськой?»
«Один», – буркнул я.
«Может в гости заявятся, а у нас пустой стол, – мама, сморщилась, наверное так нудно мозжило в коленях, прикусила горестно опущенные губы, будто испугалась молвить лишнего. А сердце мое вдруг подскочило и заспешило от тайной радости, словно бы насулили богатых гостинцев. – Ты куда-то направился? Смотри мне, долго не шатайся, – прикрикнула мама, заметив, что я посунулся к двери.
Я вылетел на улицу, насунул лыжонки; бедному собраться – только подпоясаться. Фуфайчонка туго затянута ремнем, грудь колесом, за опояску сунут топоришко, на пуговицу нанизаны запасные силья. По скользким мосткам, плямкая по наледице лыжами, победительно выскочил на край улицы, будто кто за мною следил, остановился у околицы, по-хозяйски оглядывая родимую сторону. И сразу, невесть откуда, взялся ветер-сиверик, заподувал порывами, запоскакивал по ослепительно сияющей равнине, снежные свечи вспыхивали по буграм, но тут же рассыпались в прах и, подхваченные ветром, вкрадчиво, змеисто струили по ополькам пепельными зыбкими хвостами. Начиналась поносуха, потом поземка, а за нею завируха, замятель, а далее уж что судьба выкажет; тут не угадаешь. Солнце уже залосело, призасыпалось окалиной, зависло над синими вершинами елинников, раскатывая цветные половики.
Летом на северах зори целуются, а зимою солнце не успеет выскочить над горизонтом и тут же торопится обратно; светлого времени с воробьиный поскок. И потому только поспевай, родимый, если вырешил какое неотлучное дело. Я невольно оглянулся на родной дом, окна притягливо полыхали отраженным алым светом, будто в избе случился пожар. Мелькнула неясная мысль: может поздновато? А, волков бояться – в лес не ходить! – мысленно подзадорил я себя и храбро побежал, насколько хватало сил, подпирая себя березовой палкой. А справа у меня неурядливая, не ходкая для охоты: одна лыжа широкая, короткая и совершенно плоская, отчего постоянно «утыкивает» в снег, другая же, – длинная, узкая, беговая, но с подбитым, хлябающим носком, который я закрепил фанеркой и жестянкой от консервной банки. Хоть такие убогие лыжонки, но свои; спасибо дяде Валерию, принес списанные из школы, мне в подарок. У приятелей и таких нет, они бегают на своедельных, тяжеленных, тесаных топором и выскобленных рубанком из березовых плах.
На Чупрове перед Плоским болотом ветер ударил в грудь, сухой, обдирающий щеки порох сыпанул в лицо, морозный воздух опалил нос и губы, и стало мне, братцы, вдруг так хорошо отчего-то, так легко нутром, словно бы мне на костомашки натянули новую шкуренку. Ведь я был один, братцы мои, хозяин на весь белый свет. И, невольно поддаваясь наваждению, я возопил высоко, с выносом, поднял голос в снежное мельтешенье, в пепелесое бездонное пространство над головою, где меня конечно подслушивали:
«Когда девчонке лет шестнадцать,
то всяк старается сорвать.
Когда девчонке лет за двадцать,
то всяк старается стоптать...»
И с неба ответно затенорило, забасило на низах, гусельки взбренькали, потешные дудочки загундосили, колокольцы малиново затетенькали. Это ветер заподтягивал мне, подбивая в пяты, окутывая снежной пылью мою фуфайчонку. Бескрайнее болото дымилось, словно со всех сторон подпалили костры сушняку. А мезенская застольная песняка где-то в подвздошье застряла и никак не замолкает; в голове заклинило, но в ногах удивительно прибавилось легкости, а на сердце храбрости.
Тут стайка куропотей, вспугнутая мною, шумно прянула чуть ли не из-под ног и, низко стелясь над болотом, часто перебирая крыльями, скоро упала в кустарники, где у меня стояли ловушки, и слилась со снегом. Я проводил их взглядом и с колотящимся сердцем, стараясь не шумнуть, сторожко покатил туда. Мороз усилился, брови и ресницы заиневели; я ободрал ледяную скорлупку, чтобы лучше видеть. Эх, ружьецо бы мне сейчас, самое негодящее, двадцать второго калибра, да патроны с дробью-пашенцом. Тундровые курочки, казалось, вязали кружева, споро топтались, шили путаную строчку в ере – березовом стланике, но почуяв хруст снега под лыжами, испуганно встали на крыло и серебристым сполошливым облачком скрылись на опушке борка. Березовые стенки ловушек были полузанесены пургою, петли едва торчали из-под снега, и куропти дерзко истоптали, измяли мои ловушки. Одна птица неожиданно порскнула передо мною и тут же опала, затянутая удавкой, замерла, пытаясь слиться со снегом и спрятаться; выдавали лишь темные смородинки испуганных глаз и черный мазок на хвосту. Я ухватил птицу за горло, достал из петли, руки мои дрожали, не чувствуя холода. Тело куропатки было горячим, сквозь шелковистое перо пальцы ощущали далекое, трепетное, беззащитное сердце. Слабые толчки передавались в меня и не вызывали жалости, но лишь воспламеняли, кружили голову. Если бы я тогда знал, что на свете есть Бог, то наверняка бы решил, что это Он и послал мне гостинец в день рождения. Птица не билась, а обреченно затихла, призакрыв глаза тонкими пленками. Это была добыча, братцы мои, удача мне привалила, о которой я и мечтать-то не мог после затяжной метели. Я сдавил птице горло, сунул головенку под крыло, как это делают настоящие промысловики, но куропатка вдруг оживела, яростно забилась крыльями, роняя перо. Я растерялся и стал лихорадочно крутить куриную головенку, пока она не оторвалась совсем. Ладони мои окрасились липким, красным, я в каком-то помутнении ума принялся вытирать пальцы о крупичатый снег, об одежду. Обнюхал руки, заляпанные рукава фуфайки; кровца дикой птицы пахла неповторимо, – пряно, горьковато, березовыми почками, зимним лесом и дымом. Пока приторочивал добычу к поясу, пришел в себя, и соображение вернулось ко мне.
Когда очищал петли от снега, «заряжал» ловушки, рубил для стенок березового стланика, вдруг обнаружилась ещё одна куропатка, мерзлая, твердая, будто камень – голыш, перо плотно прилипло к телу, головка с туго сомкнутыми глазами было спрятана под крыло. Зальделая птица ничем не пахла и не вызвала на сердце новой горячки; я спокойно приторочил ее к опояске.