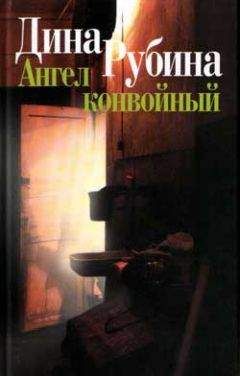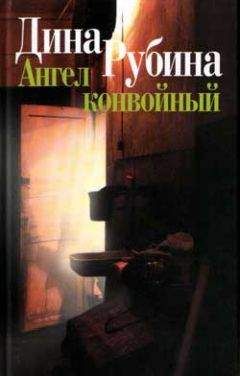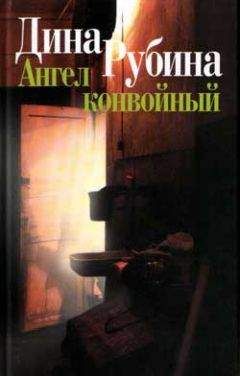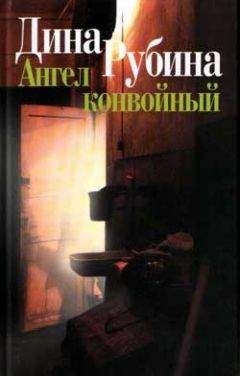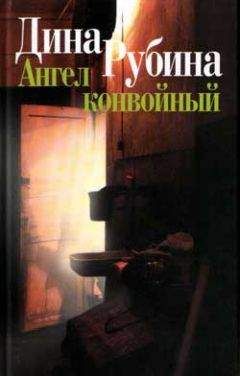Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Его лучшая книга, морской роман «Корабль смерти», написана против государства. Книга из любимейших мной в литературе века, проникновенность ее светоносна, до каких высот мог взлететь пролетарский роман, кабы его, с одной стороны, не уничтожил снобизм эстетов, с другой — лицемерие защитников, извративших своими поделками идею. У государства обязательно свойство, входящее в систему управительных функций: ему нужен класс отверженных, донный слой неудачников, сознающих, сколько б ни бились над одоленьем удела, что их голод, усталость, замаранность — неизменяемы. В разные периоды, ибо кровохлебная жадность государства то усиливается, то чуть ослабевает, величина этого слоя колеблется, различно и попадают в него. Тысячи рухнули за борт после того, как бюрократия отобрала у них документы; тысячи бесплодно возносят молитвы, дабы господь цехов и ангаров, винокурен и мясохладобоен вернул их, изгнанников, в промышленный эдем; тысячи перестали даже просить.
На кораблях мертвых, в сколоченных для затопления узилищах-катафалках с зубами во чреве, ранящими тюремный народ, места хватит всем, кого вычеркнула из списков суша. Плавающие на этих кораблях бездомные мертвецы с них не бегут, хотя в обычной тюрьме было бы легче, в тюрьме не заставляют работать круглые сутки, дырявясь о раскаленные зубья.
Голосом рассказчика автор объясняет смысл неропщущей покорности. Часто, когда он был еще жив и среди живых, вспоминает из-за гроба повествователь, он не понимал, как возможно рабство или военная служба, но тайна открылась ему. Человек любит рабство, гордится, что его бьют, истязают. Если б он прыгнул в воду, ему не пришлось бы гнить в корабельном аду. Почему он позволяет пытать себя? Потому что надеется вернуться к отнятой у него жизни, и это иллюзия, он уже мертв.
Ваша правда, пессимистический вывод, таков весь роман, кончающийся тем, что только великий капитан Смерть готов без бумаг принять моряка на свой комфортабельный, свободный от издевательств корабль. Донный слой по собственной воле воспроизводит свою вовлеченность в страдания, и, стало быть, вечно государство, что отворяет пред ним кладези унижений, несбыточна революция, бессильная расторгнуть их союз. Цезарь Август Капитализм доволен, гладиаторы идут к нему сами, умоляя разрешить им погибать на арене. Но революционный писатель, каким, вопреки невозможности, хотел быть и действительно был Травен Торсван, находит себя в отсутствие революции — в бесполезном отстаивании идеала солидарности. Раз никому нет дела до отверженных, он скажет о них слово, которого они не услышат, почти наверное не услышат, начальство же эти слова от себя оттолкнет. Все же он говорит. Он, сборщик хлопка, матрос, лесоруб, не затем вырвавшийся из последнего ряда ненужных, чтобы предать своих братьев молчанием, знает, что самое радикальное деяние в литературе — сочувствие к павшим. По-моему, это так ясно, что можно не заканчивать фразу.
Дом в переулке
Снова пасмурный январь, четыре года, как я наткнулся на эти дома в квартале развлечений для всякого люда. Около барачного здания стояли ажитирующие бухарские юноши и теребили пурпурную портьеру, в масляных пятнах кумачовую тряпку, занавесившую проем. На стене с наивным реализмом изображалась веселящаяся особа в цилиндре, бабочке и очень коротком, едва прикрывающем ягодицы костюме цирковой амазонки, вместо же лошади художник нарисовал пиджачного господина, коего, игриво нацелившись дирижерскою палочкой, наездница заманивала спелостью своих ягодных капиталов. Что это, спросил я юношей. Девочка танцует, отвечали они. Заходи, понравится, добавил, сверкнув золотыми коронками, хозяин-грузин и обратился к скучающим туркам-фланерам: пожалуйста, буюрум, но турки проигнорировали. В дом вошли двое, я и нарядный бухарец (расстегнутое демисезонное пальто, бархатный жилет, малинового шелка сорочка), третий, антильский негр в заношенном комбинезоне издольщика, дожидался внутри.
Помещение являло собою приемную с двумя стульями у стола кассира и вышибалы, дальше во мраке означился коридор, вдоль которого я насчитал шесть дверей в интимные номера; уплатив 25 шекелей, я был приглашен в крайнюю комнату справа, оказавшуюся ничтожной, не шире колодца или канцелярского сейфа каморкой с незастекленным окном, куда можно было просунуть обе руки, а ежели изловчиться, то и полтуловища. Две соседние крохотки заняли столь же неискушенные бухарец и негр, наглое вымогательство и обман, по правилам сеанс покупал один человек. К жирной, пропахшей потом и семенем тьме закутка подмешивалось немного жидкого электричества, рулон туалетной бумаги свисал до мокрой полосы на полу, я догадался, что, неосторожно размазав подошвой чье-то недавнее удовольствие, стал следующим, кому предстояло его получить. Розовый свет, собственность видневшегося через смотровой прямоугольник помоста, залил несвежим сиропом старое кресло, притулившийся к нему кассетный магнитофон и тревожное отсутствие держащей паузу исполнительницы. Две минуты оттикали, сердце мое колотилось, сипел антильский наемник, спокоен был только щеголь в средней кабинке. Она поднялась на скрипучие доски, взяла с каждого 20 шекелей, свой взнос за возбуждающий танец дополнительно к плате за вход, нажала кнопку музыкального ящичка и начала медленно раздеваться под французское пение и курсировать между окнами — выносливое, хоть и подпорченное тельце девятнадцатилетнего полового гавроша блестело худеньким задором дисциплины, непотливым проворством молодого ужа. Ты можешь трогать меня, процедила она по-русски, там есть бумага обтереться, я испуганно медлил, она пожала плечами и двинулась в сторону, к жадным, не знающим колебаний рукам. Восточный франт размял и погладил ей грудь, сильные клешни негра крепче, чем дозволялось уставом, сжали ей попку, высвобождаясь, она сделала ему замечание, я не дотрагивался, в ужасе от того, сколько народу хватало ее своими лапами и какую заразу подцепишь с ней, бесперою птичкой, даже не сочетаясь телами, — ноу секс, предупреждал девиз в предбаннике. Я не дотронулся в тот раз, она честно вышагивала свои четверть часа, пока не отгремели три шансона, и смальцелицый иудей гладил ей грудь перстами в перстнях, а карибский страдалец терся надувшимся пенисом о крашеную фанеру перегородки и сдавливал девичью попку, он плаксиво упрашивал кралю повыгибаться за те же деньги еще, но хозяин велел ему выйти вон.
Я был ошарашен, смятен, взбудоражен, разъят. Восемь месяцев, все время после разъезда с гражданскою спутницей, не видел я женского тела, надеясь, что до исхода дней не поборю отвращения к жизни с женщиной, и бежал любых встреч, способных перерасти в самое отвлеченное подобие отношений, меж тем непроходящий позыв любострастия подтачивал здоровье моего чурающегося мастурбации организма. Здесь, за малиновым покровом, думалось мне, я обрету избавление, в пользу этого были две характеристические особенности данного вида услуг: ни к чему не ведущая анонимность контактов и весьма условная, эфемерная близость, не определяемая даже в качестве сексуальной, — второй пункт радовал не менее первого, потому что гражданская спутница своим злостным высмеиванием моих, допускаю, скромных потенций развила во мне отторжение от привычного эроса. Все складывалось как нельзя удобней, оставалось додавить ужасную, с детства, брезгливость, но я и краем сознания не вспомнил о ней назавтра, облачным утром, с нетерпением предвкушая, что вот отомкнутся замки, падут засовы, вострубят французские трубы, и теперь-то я буду смелей. Я был первым в квартале утех, никто в Тель-Авиве не проснулся так рано по бередящему зову похоти, я плевал на приличия тем обложным, с мелкой моросью, утром у грязного порога в дом распутства, где закипали и хлюпали оргии.
Хозяин приветствовал улыбкой фиксатого рта, я по-свойски влез в апробированный намедни чуланчик и замер, внимая скрипу настила. Отдыхавшую худобу подменяла сдобная малоросска, от ее бюста и бедер несло наваристой крепостью слободы и поселка. Чего стоишь-то один, сказала она, смерив карим зрачком мою немощь, иди сюда, за двадцатку я сама тебе помассирую, и дохнула чесночно-галушечным своим песенным прошлым, в девяти поколениях, треснувших, как бандура. Покуда я переваривал новость, ошеломленный, что кодекс включает этакий праздник, она резво и шумно, на тяжелых каблуках спустилась за мной и аппендиксом, утонувшим в тени коридора, в его хитрой излучине, привела к себе, под будуарное, матовой сальностью отливавшее электричество. Соки желания еще не затопили робость, а уж она, словно кошка, которой всучили невкусную мышь, меня обработала от пояса к низу — рванула пуговицу, зацепила облупленным ногтем молнию, отправила трусы вослед упавшим штанам и без церемоний, прежде чем я успел подстелить припасенный платок, толчком усадила в поганое кресло. Я весь налился страхом, как стакан холодной водой. Голым задом в кишащую лужу микробов. Я заражен. Стало скользко и потно, взмокли подмышки. В паху распухал сиреневый цветок наказания. Час назад я был под защитою крова, вел правильную домашнюю жизнь и, нарушив ее, заслужил гадость, позор. Никогда не болел венерической гнусью, пристально следил за здоровьем своих гениталий. Двадцать лет, с тех пор как причастился тайнам пола, рачительным садовником оберегал я срам, но неизбежное случилось, в любую минуту с каждым из нас может произойти неизбежное. А музыка, пискнул я. Да ладно, сказала она и не завела поющих французов. Склонилась, вынула груди из корсета, каким соблазняют на развратных открытках, это входило в программу. Ну, доволен? Сильно не жми. Мне было дурно, тянула тошнота, разрыдаться, заснуть. Взяла в ладонь, я забыл даже зачехлить ствол резиновой пленкой, бог знает, во что окунались ее щупальца, поиграла, потерла, отпрянула от фонтанчика. Ишь ты, хмыкнула, завернув груди обратно, и нагнулась к матрасу за сигаретой.